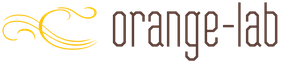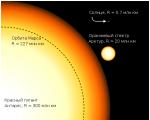Гоголь бесы. Профессионалы и дилетанты
Действие романа происходит в губернском городе ранней осенью. О событиях повествует хроникёр Г-в, который также является участником описываемых событий. Его рассказ начинается с истории Степана Трофимовича Верховенского, идеалиста сороковых годов, и описания его сложных платонических отношений с Варварой Петровной Ставрогиной, знатной губернской дамой, покровительством которой он пользуется.
Вокруг Верховенского, полюбившего «гражданскую роль» и живущего «воплощённой укоризной» отчизне, группируется местная либерально настроенная молодёжь. В нем много «фразы» и позы, однако достаточно также ума и проницательности. Он был воспитателем многих героев романа. Прежде красивый, теперь он несколько опустился, обрюзг, играет в карты и не отказывает себе в шампанском.
Ожидается приезд Николая Ставрогина, чрезвычайно «загадочной и романической» личности, о которой ходит множество слухов. Он служил в элитном гвардейском полку, стрелялся на дуэли, был разжалован, выслужился. Затем известно, что закутил, пустился в самую дикую разнузданность. Побывав четыре года назад в родном городе, он много накуролесил, вызвав всеобщее возмущение: оттаскал за нос почтенного человека Гаганова, больно укусил за ухо тогдашнего губернатора, публично поцеловал чужую жену... В конце концов все как бы объяснилось белой горячкой. Выздоровев, Ставрогин уехал за границу.
Его мать Варвара Петровна Ставрогина, женщина решительная и властная, обеспокоенная вниманием сына к её воспитаннице Дарье Шатовой и заинтересованная в его браке с дочерью приятельницы Лизой Тушиной, решает женить на Дарье своего подопечного Степана Трофимовича. Тот в некотором ужасе, хотя и не без воодушевления, готовится сделать предложение.
В соборе на обедне к Варваре Петровне неожиданно подходит Марья Тимофеевна Лебядкина, она же Хромоножка, и целует её руку. Заинтригованная дама, получившая недавно анонимное письмо, где сообщалось, что в её судьбе будет играть серьёзную роль хромая женщина, приглашает её к себе, с ними же едет и Лиза Тушина. Там уже ждёт взволнованный Степан Трофимович, так как именно на этот день намечено его сватовство к Дарье. Вскоре здесь же оказывается и прибывший за сестрой капитан Лебядкин, в туманных речах которого, перемежающихся стихами его собственного сочинения, упоминается некая страшная тайна и намекается на какие-то особенные его права.
Внезапно объявляют о приезде Николая Ставрогина, которого ожидали только через месяц. Сначала появляется суетливый Петр Верховенский, а за ним уже и сам бледный и романтичный красавец Ставрогин. Варвара Петровна с ходу задаёт сыну вопрос, не является ли Марья Тимофеевна его законной супругой. Ставрогин молча целует у матери руку, затем благородно подхватывает под руку Лебядкину и выводит её. В его отсутствие Верховенский сообщает красивую историю о том, как Ставрогин внушил забитой юродивой красивую мечту, так что она даже вообразила его своим женихом. Тут же он строго спрашивает Лебядкина, правда ли это, и капитан, трепеща от страха, все подтверждает.
Варвара Петровна в восторге и, когда её сын появляется снова, просит у него прощения. Однако происходит неожиданное: к Ставрогину вдруг подходит Шатов и даёт ему пощёчину. Бесстрашный Ставрогин в гневе хватает его, но тут же внезапно убирает руки за спину. Как выяснится позже, это ещё одно свидетельство его огромной силы, ещё одно испытание. Шатов беспрепятственно выходит. Лиза Тушина, явно неравнодушная к «принцу Гарри», как называют Ставрогина, падает в обморок.
Проходит восемь дней. Ставрогин никого не принимает, а когда его затворничество заканчивается, к нему тут же проскальзывает Петр Верховенский. Он изъявляет готовность на все для Ставрогина и сообщает про тайное общество, на собрании которого они должны вместе появиться. Вскоре после его визита Ставрогин направляется к инженеру Кириллову. Инженер, для которого Ставрогин много значит, сообщает, что по-прежнему исповедует свою идею. Её суть - в необходимости избавиться от Бога, который есть не что иное, как «боль страха смерти», и заявить своеволие, убив самого себя и таким образом став человекобогом.
Затем Ставрогин поднимается к живущему в том же доме Шатову, которому сообщает, что действительно некоторое время назад в Петербурге официально женился на Лебядкиной, а также о своём намерении в ближайшее время публично объявить об этом. Он великодушно предупреждает Шатова, что его собираются убить. Шатов, на которого Ставрогин прежде имел огромное влияние, раскрывает ему свою новую идею о народе-богоносце, каковым считает русский народ, советует бросить богатство и мужицким трудом добиться Бога. Правда, на встречный вопрос, а верит ли он сам в Бога, Шатов несколько неуверенно отвечает, что верит в православие, в Россию, что он... будет веровать в Бога.
Той же ночью Ставрогин направляется к Лебядкину и по дороге встречает беглого Федьку Каторжного, подосланного к нему Петром Верховенским. Тот изъявляет готовность исполнить за плату любую волю барина, но Ставрогин гонит его. Лебядкину он сообщает, что собирается объявить о своём браке с Марьей Тимофеевной, на которой женился «...после пьяного обеда, из-за пари на вино...». Марья Тимофеевна встречает Ставрогина рассказом о зловещем сне. Он спрашивает её, готова ли она уехать вместе с ним в Швейцарию и там уединённо прожить оставшуюся жизнь. Возмущённая Хромоножка кричит, что Ставрогин не князь, что её князя, ясного сокола, подменили, а он - самозванец, у него нож в кармане. Сопровождаемый её визгом и хохотом, взбешённый Ставрогин ретируется. На обратном пути он бросает Федьке Каторжному деньги.
На следующий день происходит дуэль Ставрогина и местного дворянина Артемия Гаганова, вызвавшего его за оскорбление отца. Кипящий злобой Гаганов трижды стреляет и промахивается. Ставрогин же объявляет, что не хочет больше никого убивать, и трижды демонстративно стреляет в воздух. История эта сильно поднимает Ставрогина в глазах общества.
Между тем в городе наметились легкомысленные настроения и склонность к разного рода кощунственным забавам: издевательство над новобрачными, осквернение иконы и пр. В губернии неспокойно, свирепствуют пожары, порождающие слухи о поджогах, в разных местах находят призывающие к бунту прокламации, где-то свирепствует холера, проявляют недовольство рабочие закрытой фабрики Шпигулиных, некий подпоручик, не вынеся выговора командира, бросается на него и кусает за плечо, а до того им были изрублены два образа и зажжены церковные свечки перед сочинениями Фохта, Молешотта и Бюхнера... В этой атмосфере готовится праздник по подписке в пользу гувернанток, затеянный женой губернатора Юлией Михайловной.
Варвара Петровна, оскорблённая слишком явным желанием Степана Трофимовича жениться и его слишком откровенными письмами к сыну Петру с жалобами, что его, дескать, хотят женить «на чужих грехах», назначает ему пенсион, но вместе с тем объявляет и о разрыве.
Младший Верховенский в это время развивает бурную деятельность. Он допущен в дом к губернатору и пользуется покровительством его супруги Юлии Михайловны. Она считает, что он связан с революционным движением, и мечтает раскрыть с его помощью государственный заговор. На свидании с губернатором фон Лембке, чрезвычайно озабоченным происходящим, Верховенский умело выдаёт ему несколько имён, в частности Шатова и Кириллова, но при этом просит у него шесть дней, чтобы раскрыть всю организацию. Затем он забегает к Кириллову и Шатову, уведомляя их о собрании «наших» и прося быть, после чего заходит за Ставрогиным, у которого только что побывал Маврикий Николаевич, жених Лизы Тушиной, с предложением, чтобы Николай Всеволодович женился на ней, поскольку она хоть и ненавидит его, но в то же время и любит. Ставрогин признается ему, что никак этого сделать не может, поскольку уже женат. Вместе с Верховенским они отправляются на тайное собрание.
На собрании выступает мрачный Шигалев со своей программой «конечного разрешения вопроса». Её суть в разделении человечества на две неравные части, из которых одна десятая получает свободу и безграничное право над остальными девятью десятыми, превращёнными в стадо. Затем Верховенский предлагает провокационный вопрос, донесли ли бы участники собрания, если б узнали о намечающемся политическом убийстве. Неожиданно поднимается Шатов и, обозвав Верховенского подлецом и шпионом, покидает собрание. Это и нужно Петру Степановичу, который уже наметил Шатова в жертвы, чтобы кровью скрепить образованную революционную группу-«пятёрку». Верховенский увязывается за вышедшим вместе с Кирилловым Ставрогиным и в горячке посвящает их в свои безумные замыслы. Его цель - пустить большую смуту. «Раскачка такая пойдёт, какой мир ещё не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...» Тогда-то и понадобится он, Ставрогин. Красавец и аристократ. Иван-Царевич.
События нарастают как снежный ком. Степана Трофимовича «описывают» - приходят чиновники и забирают бумаги. Рабочие со шпигулинской фабрики присылают просителей к губернатору, что вызывает у фон Лембке приступ ярости и выдаётся чуть ли не за бунт. Попадает под горячую руку градоначальника и Степан Трофимович. Сразу вслед за этим в губернаторском доме происходит также вносящее смуту в умы объявление Ставрогина, что Лебядкина - его жена.
Наступает долгожданный день праздника. Гвоздь первой части - чтение известным писателем Кармазиновым своего прощального сочинения «Merci», а затем обличительная речь Степана Трофимовича. Он страстно защищает от нигилистов Рафаэля и Шекспира. Его освистывают, и он, проклиная всех, гордо удаляется со сцены. Становится известно, что Лиза Тушина среди бела дня пересела внезапно из своей кареты, оставив там Маврикия Николаевича, в карету Ставрогина и укатила в его имение Скворешники. Гвоздь второй части праздника - «кадриль литературы», уродливо-карикатурное аллегорическое действо. Губернатор и его жена вне себя от возмущения. Тут-то и сообщают, что горит Заречье, якобы подожжённое шпигулинскими, чуть позже становится известно и об убийстве капитана Лебядкина, его сестры и служанки. Губернатор едет на пожар, где на него падает бревно.
В Скворешниках меж тем Ставрогин и Лиза Тушина вместе встречают утро. Лиза намерена уйти и всячески старается уязвить Ставрогина, который, напротив, пребывает в нехарактерном для него сентиментальном настроении. Он спрашивает, зачем Лиза к нему пришла и зачем было «столько счастья». Он предлагает ей вместе уехать, что она воспринимает с насмешкой, хотя в какое-то мгновение глаза её вдруг загораются. Косвенно в их разговоре всплывает и тема убийства - пока только намёком. В эту минуту и появляется вездесущий Петр Верховенский. Он сообщает Ставрогину подробности убийства и пожара в Заречье. Лизе Ставрогин говорит, что не он убил и был против, но знал о готовящемся убийстве и не остановил. В истерике она покидает ставрогинский дом, неподалёку её ждёт просидевший всю ночь под дождём преданный Маврикий Николаевич. Они направляются к месту убийства и встречают по дороге Степана Трофимовича, бегущего, по его словам, «из бреду, горячечного сна, искать Россию» В толпе возле пожарища Лизу узнают как «ставрогинскую», поскольку уже пронёсся слух, что дело затеяно Ставрогиным, чтобы избавиться от жены и взять другую. Кто-то из толпы бьёт её, она падает. Отставший Маврикий Николаевич успевает слишком поздно. Лизу уносят ещё живую, но без сознания.
А Петр Верховенский продолжает хлопотать. Он собирает пятёрку и объявляет, что готовится донос. Доносчик - Шатов, его нужно непременно убрать. После некоторых сомнений сходятся, что общее дело важнее всего. Верховенский в сопровождении Липутина идёт к Кириллову, чтобы напомнить о договорённости, по которой тот должен, прежде чем покончить с собой в соответствии со своей идеей, взять на себя и чужую кровь. У Кириллова на кухне сидит выпивающий и закусывающий Федька Каторжный. В гневе Верховенский выхватывает револьвер: как он мог ослушаться и появиться здесь? Федька неожиданно бьёт Верховенского, тот падает без сознания, Федька убегает. Свидетелю этой сцены Липутину Верховенский заявляет, что Федька в последний раз пил водку. Утром действительно становится известно, что Федька найден с проломленной головой в семи верстах от города. Липутин, уже было собравшийся бежать, теперь не сомневается в тайном могуществе Петра Верховенского и остаётся.
К Шатову тем же вечером приезжает жена Марья, бросившая его после двух недель брака. Она беременна и просит временного пристанища. Чуть позже к нему заходит молодой офицерик Эркель из «наших» и сообщает о завтрашней встрече. Ночью у жены Шатова начинаются роды. Он бежит за акушеркой Виргинской и потом помогает ей. Он счастлив и чает новой трудовой жизни с женой и ребёнком. Измотанный, Шатов засыпает под утро и пробуждается уже затемно. За ним заходит Эркель, вместе они направляются в ставрогинский парк. Там уже ждут Верховенский, Виргинский, Липутин, Лямшин, Толкаченко и Шигалев, который внезапно категорически отказывается принимать участие в убийстве, потому что это противоречит его программе.
На Шатова нападают. Верховенский выстрелом из револьвера в упор убивает его. К телу привязывают два больших камня и бросают в пруд. Верховенский спешит к Кириллову. Тот хоть и негодует, однако обещание выполняет - пишет под диктовку записку и берет на себя вину за убийство Шатова, а затем стреляется. Верховенский собирает вещи и уезжает в Петербург, оттуда за границу.
Отправившись в своё последнее странствование, Степан Трофимович умирает в крестьянской избе на руках примчавшейся за ним Варвары Петровны. Перед смертью случайная попутчица, которой он рассказывает всю свою жизнь, читает ему Евангелие, и он сравнивает одержимого, из которого Христос изгнал бесов, вошедших в свиней, с Россией. Этот пассаж из Евангелия взят хроникёром одним из эпиграфов к роману.
Все участники преступления, кроме Верховенского, вскоре арестованы, выданные Лямшиным. Дарья Шатова получает письмо-исповедь Ставрогина, который признается, что из него «вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы». Он зовёт Дарью с собой в Швейцарию, где купил маленький домик в кантоне Ури, чтобы поселиться там навечно. Дарья даёт прочесть письмо Варваре Петровне, но тут обе узнают, что Ставрогин неожиданно появился в Скворешниках. Они торопятся туда и находят «гражданина кантона Ури» повесившимся в мезонине.
Бесы: Роман-предупреждение Сараскина Людмила Ивановна
ПРОФЕССИОНАЛЫ И ДИЛЕТАНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ И ДИЛЕТАНТЫ
Типы сочинителей-литераторов от «мала» до «велика», фигурирующих в произведениях Достоевского, весьма разнообразны как в творческом, так и в чисто человеческом отношении.
С точки зрения их литературной карьеры, места в «иерархии», звездой первой величины бесспорно оказывается Семен Егорович Кармазинов («Бесы»), «великий писатель земли русской», европейски знаменитый, плодовитый и преуспевающий. «Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, - замечает Хроникер, - все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, - не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, - забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро…
О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая этого». Однако как бы ни аттестовал Кармазинова Хроникер, в контексте нашей темы важно, что Кармазинов - литератор, писатель - не фикция; у него есть сочинения (в романе фигурируют два его текста - статья о гибели парохода, в пересказе, и злополучное «Merci»), есть репутация, есть, наконец, «писательская биография» и «эволюция творчества». Кармазинов - «сложившийся литератор», профессионал: «Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению…»
Очевидно, однако, что симпатии Достоевского, независимо от его пародийной установки, отнюдь не принадлежат литераторам типа Кармазинова. Гораздо больше сочувствия вызывает у него образ молодого начинающего писателя, честного и талантливого: таков Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», таковы - с разными вариациями - вымышленные авторы многочисленных записок и воспоминаний: Варенька Доброселова, Горянчиков, Подпольный, Игрок, Хроникер из «Бесов», Аркадий Долгорукий - те, для которых литераторство - главный жизненный шанс.
Интересовал Достоевского и тип графомана-чиновника, развлекающегося литературой (Ратазяев, Лембке), - тексты таких сочинений не только откровенно подражательны, но и пародийны по отношению к объекту подражания.
Тип «огорченного литератора», сочинителя, ужаленного «змеей литературного самолюбия», стал несомненным художественным открытием Достоевского. Фома Фомич Опискин («Село Степанчиково…») как бы иллюстрирует то положение в литературе, которое искренне разделял Достоевский: «У нас очень легко сделаться умниками и передовыми людьми, попасть в литературные или другие какие-либо общественные деятели… Мы в практической жизни идеологи, и это частию и потому, что тут не требуется большого труда» (19, 26).
«Когда-то он занимался в Москве литературою, - пишет о Фоме автор «Записок». - Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось… а литература способна загубить и не одного Фому Фомича - разумеется, непризнанная… Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивления».
Одна из существенных черт таких литераторов, как Фома, бездарей и графоманов, - их поразительная «жанровая» неразборчивость, способность и готовность «на все». То он собирается написать «одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия», то обещает поехать в Москву издавать журнал, то грозится написать сатиру на соседа и послать в печать, то берется сочинять надгробные надписи, то ищет предлог, чтобы напасть на большую литературу и обругать ее, то составляет проект издания стихов лакея Видоплясова со своим предисловием и похвалой себе. Фоме во что бы то ни стало важно сохранить за собой репутацию человека посвященного, причастного к литературе: «Я знаю Русь, и Русь меня знает».
Всех, кто имеет к литературе отношения весьма косвенные, Фома глубоко презирает и третирует, считая их людьми второго сорта, хотя подлинные его враги - как раз ненавистные ему столичные сочинители, состоявшиеся писатели. Характеристика Фомы довершается исчерпывающей информацией - полным списком его сочинений, составивших «литературное наследие»: Романчик, весьма похожий на те, которые стряпались… в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь»… романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса»; сочинение о «производительных силах каких-то», оставшееся неоконченным; начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии ; поэма «Анахорет на кладбище», писанная белыми стихами; «рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться»; повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченная.
Едва ли не все произведения Фомы Опискина - незаконченные или только начатые рукописи: факт незавершенности замысла, не доведенной до конца работы в высшей степени примечательная черта деятельности «неудавшегося литератора».
Тип «современного строчилы» - предмет особого интереса Достоевского. «Так и рвут друг у друга новости! - писал он о столичных фельетонистах в статье «Петербургские сновидения в стихах и прозе». - А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же; уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то же, но как-нибудь не в тех же словах» (19, 67).
Иван Иванович, автор «Записок одного лица», герой рассказа «Бобок», - литератор-неудачник, фельетонист из разряда «чего изволите», спившийся до галлюцинаций, человек с больной психикой, измененной речью, неповинующимся слогом и «выдающейся» литературной биографией: список его сочинений, образ литературных занятий вполне выражает степень интеллектуальной деградации, до которой он дошел: «Написал повесть - не напечатали. Написал фельетон - отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет»… Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам… За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой нынче Вольтер: нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию на прошлой неделе сороковое письмо за два года послал…». Дикая история, случившаяся с ним на кладбище, также планируется как материал для фельетона; рассказ заканчивается на обещании Ивана Ивановича «побывать везде, во всех разрядах», «составить понятие», записать «биографию и разные анекдотцы» о мертвецах и снести в «Гражданин»: «авось напечатает».
Помимо литературных генералов, а также сочинителей-прозаиков непрофильной специализации - ученых-филосо-фов (Ордынов), фельетонистов-пасквилянтов (Келлер), самоубийц с их единственным предсмертным сочинением, дневником или исповедью (Крафт, Ипполит, Ставрогин), переводчиков-компиляторов (Разумихин), критиков (Маслобоев), произведения Достоевского насчитывают огромное - в сравнении с общим числом сочинителей - количество поэтов, стихотворцев, версификаторов, написавших кто поэму, кто романс, а кто и две строки неизвестного назначения.
В мире художественных образов Достоевского, густо населенном литераторами и сочинителями самого разного калибра, профессия стихотворца оказывается едва ли не наиболее удобной, выгодной, доступной для тех, кто хочет быстро, «разом» осуществить свою литературную карьеру, получить репутацию сочинителя. Стихами, стишками, куплетами как произведениями легкодоступного, демократического жанра начали (или хотят начать) свое поприще в литературе большинство сочинителей.
Именно о карьере поэта мечтает герой «Бедных людей»: его первая книга, как мы помним, должна была называться «Стихотворения».
Другой персонаж, Голядкин-младший, пишет «чувствительные» стихи, «впрочем прекрасным слогом и почерком»:
Если ты меня забудешь,
Не забуду я тебя;
В жизни может все случиться,
Не забудь и ты меня!
И ничто, может быть, не оскорбляет так Голядкина-старшего, как рифмоплетство двойника, обнажающее мизерность его духовного развития, безвкусицу, пошлость, фальшь.
Герой романа «Дядюшкин сон», старый князь, признается, что писал куплеты для водевиля и сочинил стихи:
Наш поляк
Танцевал краковяк…
А как ногу сломал,
Танцевать перестал.
«Но вы бы могли писать, князь! - говорит ему Марья Александровна Москалева, желая наградить его самым высоким комплиментом. - Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!»
«Мордасовские летописи» сообщают еще об одном поэте - женихе Зинаиды. «Мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире…» - так о нем говорят «злые языки». «Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу…» - так он говорит о себе сам.
В «Скверном анекдоте» яростным врагом и неумолимым обличителем генерала Пралинского оказывается сотрудник газеты «Головешка», написавший «только четыре стишка и сделавшийся оттого либералом». Стишки кропает и Иван Матвеевич, персонаж «Крокодила», и он же лелеет надежду открыть литературно-политический салон .
Два стихотворца упоминаются в «Преступлении и наказании»: отец Родиона Раскольникова, который дважды пытался напечататься - отсылал в журналы сначала стихи («у меня и тетрадка хранится, я тебе когда-нибудь покажу», - говорит сыну Пульхерия Александровна), а потом уж и целую повесть («я сама выпросила, чтоб он дал мне переписать»), а также чиновник Чебаров, который «сатирические стишки тоже пишет, общественные пороки преследует, предрассудки искореняет» (7, 52).
Свои поэты - и их немало - имеются в «Бесах» и «Братьях Карамазовых»; речь о них впереди.
Особую категорию составляют те весьма многочисленные персонажи, которые страстно мечтают о литературе, но не сделали еще ни одной в своей жизни «письменной» попытки. Так, Алеша Валковский думает о литературе как о синекуре, выгодном и прибыльном деле: «Я хочу писать повести и продавать в журналы… вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы… Главное, за него дадут денег…» Коля Красоткин хочет готовить себя к деятельности публициста, чтобы «говорить правду, вечно правду, всегда правду вразрез всем злым и сильным мира сего» (15, 371), генерал Иволгин, фантазер и враль, пускает слух о якобы уже написанных записках: «Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и, без сомнения, переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем…» Радомский («Идиот») готов написать литературную критику на социалистов, Игнатий Прокофьевич, чиновник из «Крокодила», хочет дать отзыв об «экономическом принципе» и напечатать его в «Известиях», и так далее, и тому подобное. Пишут и хотят писать в произведениях Достоевского многие, ибо, по выражению персонажей «Идиота», «гласность есть законное право всякого… право всеобщее, благородное и благодетельное».
Долголетняя вражда к Тургеневу вдохновляет Достоевского на жестокую литературную расправу с автором «Дыма». В «Бесах» он выводит под видом «великого писателя» Кармазинова тип «баденского буржуа». Достоевский ехидно высмеивает его наружность, «крикливый и сюсюкающий голос», манеру «лезть лобызаться и подставлять щеку»; пародирует свою беседу с ним в Баден-Бадене и приписывает ему следующее «германофильское» заявление: «Я сижу вот уже седьмой год в Карлсруэ. И когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества, за все время так называемых здешних реформ ». За карикатурой на личность «великого писателя», следует блестящая и убийственная пародия на «Довольно» и «Призраки». Кармазинов на «Празднике» читает свою повесть «Мерси».
…Господин Кармазинов жеманясь и тонируя, объявляет, что он «сначала ни за что не соглашался читать» (очень надо было объявлять!). «Есть, дескать, такие строки, которые до того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику (ну, так зачем же понес?); но так как его упросили, то он и понес, и так как сверх того он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь: и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтет эту последнюю статью публике и т. д., и т. д., все в этом роде…
Пародия на «Призраки» Тургенева – шедевр литературного шаржа. С проницательностью ненависти Достоевский подмечает расплывчатую лирику и претенциозную фантастику своего врага. Пессимистическая философия одряхлевшего романтика высмеивается необыкновенно зло и метко. «Тридцать семь лет назад, когда, помнишь, в Германии, мы сидели под агатовым деревом, ты сказала мне: "К чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю". Тут опять заклубился туман, явился Гофман , просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк Марций . Озноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки».
И. С. Тургенев - прототип писателя Кармазинова в «Бесах»
В Бадене Тургенев оскорбил в Достоевском русского патриота и верующего христианина. В романе «Бесы» он свирепо отомстил обидчику. Карикатура Достоевского на Тургенева (Кармазинов) не менее художественно совершенна, чем карикатура на Гоголя в «Селе Степанчикове и его обитателях » (Фома Опискин).
Предыстория шестого романа Федора Достоевского такова. В ноябре 1869 года в Москве произошло преступление, за ним судебный процесс, который вызвал большой резонанс в обществе. Члены революционного кружка Нечаева убили студента Иванова. Причиной послужило желание Иванова порвать с тайным обществом. В прессе были опубликованы многие документы громкого процесса, в том числе и «Катехизис революционера», в котором оправдывалось любое зло и преступление, если оно совершено во благо революции.
По материалам этого дела у Достоевского и возникла идея нового романа. В 1871 – 1872 годы «Бесы» были напечатаны в журнале «Русский вестник».
Общество достаточно прохладно приняло новый роман. О нем негативно отзывался Тургенев , а некоторые критики и вовсе объявили произведение «клеветой» и «бредом». Со временем ситуация мало изменилась. Большинство сторонников российского революционного движения воспринимали «Бесы» как злобную карикатуру на свои идеи. Такая репутация препятствовала широкой известности произведения.
В отличие от России, западная культура по достоинству оценила социально-нравственную глубину романа. Это произведение имело огромное влияние на философскую литературу рубежа XIX – XX века, известными представителями которой были Ницше и Камю .
Отношение к «Бесам» на постсоветском пространстве изменилось совсем недавно. Нашим современникам стало понятно пророчество идей Достоевского, его желание показать миру всю опасность радикальных революционных и атеистических идей. Глубину отчуждения к своим персонажам писатель выразил в названии и эпиграфе, взятом из одноименного стихотворения Пушкина . Кто же в произведении главный «бес»?
В изображении Петра Верховенского явно просматривается аналогия с Нечаевым, а в его высказываниях – дух «Катехизиса революционера». Но этот человек глубже и многограннее, чем беглый руководитель революционного кружка. Петр – самый последовательный из всех «борцов за освобождение». Складывается впечатление, что нет такого злодейства и подлости, на которое он не пойдет. Все святое и возвышенное не просто отвергается Верховенским-младшим, а высмеивается им и опошляется. Для такого человека нет высших ценностей, включая человеческую жизнь. Петр хладнокровно планирует убийство Шатова, бросает своих соратников, цинично использует намерение Кириллова застрелиться, чтобы замести следы. Он даже в мелочах безбожен и отвратителен. Суть этого человека – принижение всего и всех для оправдания и выпячивания собственного мелкого и грязного «я».
Какова же цель Петра? Он сам признается, что революционная идея лишь средство. Главное – власть. Верховенский стремится управлять людьми, их умами и душами, но хорошо понимает, что сам мелковат для «властителя дум» и потому делает ставку на Николая Ставрогина .
Этот персонаж занимает в романе центральное место. Николай – красивый молодой человек, в него влюблены все женщины, а мужчины им восхищаются. Но внутри Ставрогин пуст. Николай не ищет для себя никакой выгоды, у него нет цели. Свобода и отрицание всего – вот разрушительная сила этого «Ивана – царевича», как называет его Верховенский. В Ставрогине каждый видит нечто свое. А все потому, что Николай вольно или невольно подает Верховенскому, Шатову и Кириллову их основные идеи. Но самому Николаю ни одна из них не интересна.
Ставрогин знает, что его сила беспредельна, но не видит ей применения, да и не желает искать. Эта пустота втягивает в себя окружающих, ломая их судьбы, отнимая жизни. Один за другим гибнут, вовлеченные в страшное притяжение этой черной воронки, брат и сестра Лебядкины, Шатов, Кириллов, Даша.
Сущность Ставрогина четко проявляется в конце произведения, в его предсмертном письме. Насильник, убийца, клятвопреступник, растлитель двенадцатилетней Матреши не различает добро и зло. Им владеет лишь чувство гордыни и презрения к людям. Поэтому логичным видится и самоубийство Ставрогина – внутренняя воронка черноты поглощает и саму оболочку.
В романе Николай является и учителем Кириллова с идеей человекобога и вдохновителем Шатова с его верой в православие. Ставрогин одновременно внушает двум людям прямо противоположные постулаты.
У Кириллова очень сложный характер. Он любит жизнь во всех проявлениях, даже благодарен пауку, который ползет по стене: «Все хорошо… Я всему молюсь». Но Кириллов ненавидит мир, построенный на лжи. Мрачное одиночество этого неординарного человека, раздвоенность его внутреннего мира, в котором борются вера и безверие, приводят его к парадоксальной идее – Бог мертв, а человек может доказать, что он свободен от веры в Бога, только совершив самоубийство.
В бредовых идеях Кириллова сложно искать здравый смысл. Зато Шатов вполне логичен, хотя также противоречив. Ярый приверженец атеизма и социализма становится вдруг ревностным сторонником идеи избранного Богом русского народа. Но Шатов не верит в Бога, а только хочет верить. Он ненавидит всех, кто не разделяет его новых убеждений.
Показателен в романе и образ Степана Трофимовича Верховенского – отца Петра, а также воспитателя Шатова и Ставрогина. Это типичный представитель идеалиста-либерала 40-х годов XIX века. Ему свойственны восхищение прекрасным, талант и благородство в сочетании с презрением к религии, отечеству и русской культуре. Корыстолюбие, слабохарактерность, эгоизм и лживость Верховенского-старшего приводят к тому, что ученики не верят в искренность проповедуемых им высоких, но абстрактных и бесплодных идеалов. Размытость ценностей Степана Трофимовича делает его проводником хаоса в души своих учеников.
Но именно этому герою Достоевский дает право раскрыть суть эпиграфа произведения, показать путь спасения для России. Евангельская притча об изгнанных бесах в эпилоге показывает убежденность Достоевского в том, что герои его романа будут выброшены из общественной и политической жизни страны.
Роман «Бесы» – грозное предупреждение, в котором писатель предвидит общественную катастрофу и появление целой плеяды революционеров, подобных Нечаеву. Они способны идти к «свободе, равенству и всеобщему счастью» по трупам. Это предупреждение актуально во все времена.
В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее: я преклоняюсь пред величием гения; но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Ну что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще я сделал замечание, что будь разгений, но в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более двадцати минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький, и как-то недружный, сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки, до самого того мгновения, когда господин Кармазинов заговорил, да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться, — вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского, и притом при врожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей; напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он «сначала ни за что не соглашался читать» (очень надо было объявлять!). «Есть, дескать, такие строки, которые до того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику» (ну так зачем же понес?); «но так как его упросили, то он и понес, и так как, сверх того, он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь; и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтет эту последнюю статью публике» и т. д., и т. д. — всё в этом роде. Но всё бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий? Хотя замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это всё могло повлиять. Ну не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, — то есть хоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы всё спасено. Нет-с, не тут-то было! Началась рацея! Боже, чего тут не было! Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни; этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнясь, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема... Но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не могли одолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе... И, что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрок (непременно дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике). При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных, то есть и все видели, но не умели приметить, а «вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь». Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пиеса, которую он играл, названа en toutes lettres, но никому не известна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг всё изчезает, и великий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. Две с половиною страницы переправы, но все-таки попадает в прорубь. Гений тонет, — вы думаете, утонул? И не думал; это всё для того, что когда он уже совсем утопал и захлебывался, то пред ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная, «как замороженная слеза», и в этой льдинке отразилась Германия или, лучше сказать, небо Германии, и радужною игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, «помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом и ты воскликнула радостно: „Нет преступления!“. „Да, — сказал я сквозь слезы, — но коли так, то ведь нет и праведников“. Мы зарыдали и расстались навеки». — Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры; и вот он спускается, спускается, три года спускается в Москве под Сухаревою башней, и вдруг в самых недрах земли, в пещере находит лампадку, а пред лампадкой схимника. Схимник молится. Гений приникает к крошечному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника! Нет-с, просто-запросто этот вздох «напомнил ему ее первый вздох, тридцать семь лет назад», когда, «помнишь, в Германии, мы сидели под агатовым деревом, и ты сказала мне: „К чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю“». Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк Марций. «Озноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки» и т. д., и т. д. Одним словом, я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик — все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы, но что касается его самого, — нет-с, он уже над этими великими умами Европы возвысился; все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет; атеизм, дарвинизм, московские колокола... Но увы, он уже не верит в московские колокола; Рим, лавры... но он даже не верит в лавры... Тут казенный припадок байроновской тоски, гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина, — и пошла, и пошла, засвистала машина... «А впрочем, похвалите, похвалите, я ведь это ужасно люблю; я ведь это только так говорю, что кладу перо; подождите, я еще вам триста раз надоем, читать устанете...». Разумеется, кончилось не так ладно; но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и всё то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более двадцати минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал. Он продолжал сюсюкать и мямлить, знать не зная публики, так что все стали приходить в недоумение. Как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос: — Господи, какой вздор! Это выскочило невольно и, я уверен, безо всякой демонстрации. Просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просюсюкал с осанкою уязвленного камергера: — Я, кажется, вам, господа, надоел порядочно? Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил; ибо, вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить и, так сказать, даже законно, тогда как если б удержался, то посморкались-посморкались бы, и сошло бы как-нибудь... Может быть, он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос; но аплодисмента не раздалось; напротив, все как будто испугались, съежились и притихли. — Вы вовсе никогда не видали Анк Марция, это всё слог, — раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос. — Именно, — подхватил сейчас же другой голос, — нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками. — Господа, я менее всего ожидал таких возражений, — ужасно удивился Кармазинов. Великий гений совсем отвык в Карлсруэ от отечества. — В наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах, — протрещала вдруг одна девица. — Вы, Кармазинов, не могли спускаться в пещеры к пустыннику. Да и кто говорит теперь про пустынников? — Господа, всего более удивляет меня, что это так серьезно. Впрочем... впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду... Он хоть и улыбался иронически, но сильно был поражен. Лицо его так и выражало: «Я ведь не такой, как вы думаете, я ведь за вас, только хвалите меня, хвалите больше, как можно больше, я это ужасно люблю...». — Господа, — прокричал он наконец, уже совсем уязвленный, — я вижу, что моя бедная поэмка не туда попала. Да и сам я, кажется, не туда попал. — Метил в ворону, а попал в корову, — крикнул во всё горло какой-то дурак, должно быть пьяный, и на него, уж конечно, не надо бы обращать внимания. Правда, раздался непочтительный смех. — В корову, говорите вы? — тотчас же подхватил Кармазинов. Голос его становился всё крикливее. — Насчет ворон и коров я позволю себе, господа, удержаться. Я слишком уважаю даже всякую публику, чтобы позволить себе сравнения, хотя бы и невинные; но я думал... — Однако вы, милостивый государь, не очень бы... — прокричал кто-то из задних рядов. — Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан... — Нет, нет, мы желаем слушать, желаем, — раздалось несколько осмелившихся наконец голосов из первого ряда. — Читайте, читайте! — подхватило несколько восторженных дамских голосов, и наконец-то прорвался аплодисмент, правда мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с места. — Поверьте, Кармазинов, что все считают даже за честь... — не удержалась даже сама предводительша. — Господин Кармазинов, — раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища, прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего еще гостя. Он даже привстал с места. — Господин Кармазинов, если б я имел счастие так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения... Он даже весь покраснел. — Господа, — прокричал Кармазинов, — я кончил. Я опускаю конец и удаляюсь. Но позвольте мне прочесть только шесть заключительных строк. «Да, друг читатель, прощай! — начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресла. — Прощай, читатель; даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались друзьями: к чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брани, о, брани меня, сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки. И если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: „Пиши, о, пиши для нас, Кармазинов, — для отечества, для потомства, для лавровых венков“, то и тогда бы я вам ответил, разумеется поблагодарив со всею учтивостью: „Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, merci! Пора нам в разные стороны! Merci, merci, merci“». Кармазинов церемонно поклонился и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы. — И вовсе никто не будет стоять на коленях; дикая фантазия. — Экое ведь самолюбие! — Это только юмор, — поправил было кто-то потолковее. — Нет, уж избавьте от вашего юмора. — Однако ведь это дерзость, господа. — По крайней мере теперь-то хоть кончил. — Эк скуки натащили! Но все эти невежественные возгласы задних рядов (не одних, впрочем, задних) были заглушены аплодисментом другой части публики. Вызывали Кармазинова. Несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну и предводительшу, столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок, на белой бархатной подушке, в другом венке из живых роз. — Лавры! — произнес Кармазинов с тонкою и несколько язвительною усмешкой. — Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством; но уверяю вас, mesdames, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих... — Да повара-то полезнее, — прокричал тот самый семинарист, который был в «заседании» у Виргинского. Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком. — Я за повара теперь еще три целковых придам, — громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко с настойчивостью. — И я. — И я. — Да неужели здесь нет буфета? — Господа, это просто обман... Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа еще сильно боялись наших сановников, да и пристава, бывшего в зале. Кое-как, минут в десять, все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстановлялось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимович...