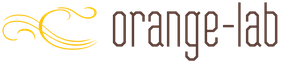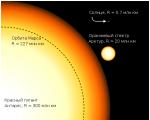Автором произведения былое и думы является. Время, события, люди в Былом и думах А.И.Герцена
Краткое содержание дать вам не могу, ибо трудно будет. Вместо этого – вот вам биография Герцена, это ведь и есть содержание БиД, подробности немного есть в билете. Г.родился 25 марта 1812 в Москве, внебрачный сын знатного русского барина Яковлева и немки Луизы Гааг. Ребенку Яковлев дал фамилию Герцен (от немецкого слова "Herz" - сердце). У матери Г. научился немецкому языку, в разговорах с отцом и гувернерами - французскому. У Яковлева была богатая библиотека, состоявшая почти исключительно из сочинений французских писателей XVIII в., и в ней мальчик рылся вполне свободно. События 14 декабря 1825 определили направление стремлений и симпатий Герцена. В 1833 Герцен окончил университет. Еще в университете он ознакомился с учением сен-симонистов. Через год после окончания курса Герцен и его друг Огарев были арестованы. Причиною ареста был самый факт существования в Москве "неслужащих", вечно о чем-то толкующих молодых людей, а поводом - одна студенческая вечеринка, на которой пелась содержавшая в себе "дерзостное порицание" песня, и был разбит бюст Николая. Дознание выяснило, что песню составил Соколовский, с Соколовским был знаком Огарев, с Огаревым дружил Г., и хотя на вечеринке ни Г., ни Огарев даже не были, тем не менее, на основании "косвенных улик" они были привлечены к делу о "несостоявшемся, вследствие ареста, заговоре молодых людей, преданных учению сен-симонизма". В тюрьме Герцен пробыл девять месяцев, после чего, по его словам, "нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки". Герцену назначили местом ссылки Пермь, где он провел три недели и затем, по распоряжению властей, был переведен в Вятку, с зачислением в качестве "канцеляриста" на службу к губернатору Тюфяеву. Вскоре его перевели из Вятки во Владимир, а после Владимира Герцену разрешено было жить в Петербурге, но вскоре он снова оказался в ссылке, в Новгороде. Благодаря хлопотам друзей Герцену удалось выйти в отставку и переехать в Москву. Там и прожил он с 1842 по 1847 - последний период своей жизни в России. Герцена тянуло в Европу, но на просьбы Герцена о выдаче заграничного паспорта для лечения там жены император Николай положил резолюцию: "не надо". В 1847 он наконец-то прибыл в Париж, затем в Женеву, жил в Италии. После появления "Писем из Франции и Италии", появилось в печати и знаменитое произведение Герцена "С того берега" (первоначально также по-немецки: "Von andern Ufer"). Похоронив в Ницце жену, Герцен переехал в Лондон, где поставил первый станок вольной русской прессы, на котором печатались журналы "Полярная Звезда" и "Колокол", первый номер которого вышел 1 июля 1857. "Колокол" продолжал выходить до 1867. В это-то время он и написал «БиД».
Замысел. Книга воспоминаний «Былое и думы» - особое произведение Герцена, над ним он работал почти 16 лет, с 1852 по 1868 г. В этой книге воссоздаются этапы его личной судьбы и крупнейшие события эпохи. Поводом к работе над книгой послужили драматичные обстоятельства семейной жизни Герцена в 1849-52 гг. Его разлад с женой, ее примирение с Г. и смерть – должны были лечь в основу книги. Г. был убежден, что его драма имеет глубокий общественный смысл. Но постепенно рамки книги раздвинулись. В итоге Г. решил писать «с начала», от первых дней младенчества до дней нынешних. К драме жизни Г. (смерть матери, малолетнего сына и жены) присоединилась общественная драма. Во Франции произошла революция, но тут же была подавлена, и к власти снова пришли монархи (для Г. это было очень важно). «Все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье. Камня на камне не осталось от прежней жизни».
Особенность жанра . Книга – своего рода исповедь, мемуары . К этой форме Г. тяготел всю жизнь. Многие его произведения автобиографичны. По мнению Г., сочинения на мемуарной основе обладают большей степенью достоверности. Воспоминания о жизненном пути служили для Г. материалом к широким идейным и художественным обобщениям. Г. пытался осмыслить свою жизнь как часть общественной жизни в целом. Жанр мемуаров, исповеди был очень популярен в Европе («Исповедь» Руссо) и был связан с возросшим интересом к человеческой личности. Г. подчеркивал, что «история каждого существования имеет свой интерес».
Г. писал: «Мое призвание – просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы, не стесняясь». Отсюда непринужденная композиция «БиД», где посреди «былого» начинаются «думы».
1. Время, события. Не случайно Г. называет БиД «отражением истории в человеке». Книга вобрала в себя весь жизненный опыт Г. В «БиД» отразилось большинство важных событий конца правления Александра I и николаевского правления: от 1812 года (год рождения Герцена) до 1868, кануна Парижской Коммуны.
Воспоминания о детских и отроческих годах сопровождаются рассказом о пожаре в Москве в 1812 году, во время которой годовалый Г. со своей семьей находился в Москве. Его отец, между прочим, был на приеме у Наполеона, просил у него выпустить его с семьей из города, захваченного французами. Наполеон дал пропуск, но за этот вражеский пропуск отца еще погоняли по всяким Винценгероде и Аракчеевым. Отношение к Наполеону у Г. плохое – «После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет 35 приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар». Из личного – начало нежной дружбы с Огаревым и их клятва на Воробьевых горах целиком посвятить себя правому делу. О событиях на Сенатской площади тоже упоминает, но они его больше интересуют с той точки зрения, как они повлияли на людей, особенно на то поколение, которое было лишь чуть младше декабристов, «потерянное поколение» (Станкевич и его кружок).
Подробно рассказывает о духовной атмосфере в Московском университете той поры, об их восстании против противного препода Малова, за которое Г. отсидел в приуниверситетском карцере пару дней. Говорил о холере в Москве и о героизме студентов-медиков. Занятно рассказывает о своей второй ссылке (в Новгород), где он занимался помещичьими злоупотреблениями и рассказывает все ужасы, как помещики/крестьяне забивали до смерти крестьян/помещиков. Помимо Салтычихи было полно таких историй. Картина духовной жизни русской интеллигенции, их споры – все как в хорошем живом журнале.
Думаю, будет неплохо еще сказать о размышлениях Г. о всей русской истории в целом (главы «Наши» и «Не наши»). Г. – западник, и в своем анализе истории делает упор на преобразованиях Петра. В основном его мысли являются отпором славянофилам. Поэтизация допетровского времени вызывает у него отпор, он доказывает, что и там все было не так хорошо. Например, «Петр переплавил новгородские колокола, но снял их Иван Грозный».
2. Люди.
В книге предстают самые разные люди: Белинский, Бакунин, Чаадаев (см. дальше), Грановский (профессор истории, западник, добряк и всех мирил). Г. удается с помощью внешнего портрета раскрыть внутреннюю сущность людей. Так же хорошо представлены образы врагов – жандармов, чиновников и даже Николая. Бенкендорф, Дубельт, Аракчеев. Николая называет «будочником» - главный полицейский стране будочников. Кстати, наиболее пристрастный портрет в книге. Николай изображен трусливым, ограниченным человеком. Свои личные проблемы, конечно же, он сваливает на царя. Например, когда его высылали второй раз, его жена страшно заболела и у нее случился выкидыш. И тут же Г. припоминает, что Николай, когда у него заболела дочь, очень переживал…
3. Литературные портреты П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского и др.
Среди западников интересен портрет Белинского . Белинский – «самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца». По мнению Г., он очень метко сочетал идеи философские с революционными. «Я считаю Б. одним из самых замечательных лиц николаевского периода…после мрачной статьи Чаадаева [см. дальше] является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство вовсе вопросы Б. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам , часто подымаясь до поэтического воодушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос».
Белинский был властителем дум своей эпохи. Его статьи, печатавшиеся в «Отечественных записках», ждали с нетерпением, журнал передавали из рук в руки и долго обсуждали.
Что касается Белинского как человека, он был очень застенчив и терялся в незнакомом обществе, или же в многочисленной компании. Иногда после таких вечеров он от нервов заболевал. Но «в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура; да, это был сильный боец ! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор ». Когда Б. чувствовал себя уязвленным, он забывал о застенчивости и «бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал жалким, и по дороге с необычайно силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль». Когда он заболел чахоткой, спорить, громко разговаривая, было тяжело, и он ужасно огорчался, что физически не может себе позволить спорить, и страдал внутренне.
Г. считает, что Б. что-то вроде сгорел на работе. «Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Б. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор давно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела».
Чаадаев – человек, не принадлежавший ни кругу западников, ни кругу славянофилов, бывший сам по себе и при своем мнении. Он был человеком другого поколения, и потому он не мог присоединиться ни к одной из партий. Его «Философическое письмо » (1836, журнал «Телескоп») вызвало широкий резонанс в обществе, и именно из-за него его объявили сумасшедшим и установили за ним негласный полицейский надзор (о котором Ч., понятно, знал, но его стражи делали вид, что это не так, и он презирал их за это). Г. о «Письме»: «Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие, жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… «Письмо» становится мрачным обвинительным актом против России , протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце».
Портрет Ч.: «Лета не исказили стройного стана его, лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора; «чело, как череп голый»… воплощены veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него». Знакомство с ним было опасно, он был в опале, но он имел на людей огромное влияние, и все делали ему визиты.
Еще важен злой, колкий юмор Ч. Вот например. Какой-то сенатор жаловался Ч., что он сильно занят, Ч. Спросил чем, тот сказал, что разбирает записки и дела. Ч. спросил, зачем. Тот сказал: «Иногда надобно подать свое мнение». Ч. ответил: «Вот в этом я уж никакой надобности не вижу».
Ч. был одиноким – его друзья либо умерли, либо попали в ссылку. Со славянами он быть не мог, так как все, чем они гордились, он считал нелепым. (Царь-пушка и царь-колокол без языка, как и вся страна этих славян ). В итоге пришел он в мистической философии и католицизму.
Портреты «не наших» - т.е. славянофиловбратьев Киреевских, Анненкова,Хомякова. На взгляд Г., Хомяков – самый достойный представитель славянофилов, самый достойный противник Белинского в спорах. Несмотря на идейные разногласия, он относится к Хомякову непредвзято. «Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков… Ум сильный, подвижной , богатый средствами и неразборчивый на них , богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, - словом, кого за убеждение – убеждение прочь, кого за логику – логика прочь». [По моему, он похож на Жириновского J]
Хомяков был очень эрудированный. Возражения его, часто мнимые, сбивали с толку и ослепляли. Он забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями.
Портрет: « В несколько восточных четах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме ». Многие думали, что Х. спорил из одной артистической любви к спорам, но вряд ли кто-то из славянофилов сделал больше для распространения их идей.
Герцен А.И.. Былое и думы.
Книга Герцена начинается с рассказов его няньки о мытарствах семьи Герцена в Москве 1812 г., занятой французами (сам А. И. тогда - маленький ребенок); кончается европейскими впечатлениями 1865 - 1868 гг. Собственно, воспоминаниями в точном смысле слова "Былое и думы" назвать нельзя: последовательное повествование находим, кажется, только в первых пяти частях из восьми (до переезда в Лондон в 1852 г.); дальше - ряд очерков, публицистических статей, расположенных, правда, в хронологическом порядке. Некоторые главы "Былого и дум" первоначально печатались как самостоятельные веши ("Западные арабески", "Роберт Оуэн"). Сам Герцен сравнивал "Былое и думы" с домом, который постоянно достраивается: с "совокупностью пристроек, надстроек, флигелей".
Часть первая - "Детская и университет (1812 - 1834)" - описывает по преимуществу жизнь в доме отца - умного ипохондрика, который кажется сыну (как и дядя, как и друзья молодости отца - напр., О. А. Жеребцова) типичным порождением XVIII в.
События 14 декабря 1825 г. оказали чрезвычайное воздействие на воображение мальчика. В 1827 г. Герцен знакомится со своим дальним родственником Н. Огаревым - будущим поэтом, очень любимым русскими читателями в 1840 - 1860-х; с ним вместе Герцен будет потом вести русскую типографию в Лондоне. Оба мальчика очень любят Шиллера; помимо прочего, их быстро сближает и это; мальчики смотрят на свою дружбу как на союз политических заговорщиков, и однажды вечером на Воробьевых горах, "обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать жизнью на избранную борьбу". Свои радикальные политические взгляды Герцен продолжает проповедовать и повзрослев - студентом физико-математического отделения Московского университета.
Часть вторая - "Тюрьма и ссылка" (1834 - 1838)": по сфабрикованному делу об оскорблении его величества Герцен, Огарев и другие из их университетского кружка арестованы и сосланы; Герцен в Вятке служит в канцелярии губернского правления, отвечая за статистический отдел; в соответствующих главах "Былого и дум" собрана целая коллекция печально-анекдотических случаев из истории управления губернией.
Здесь же очень выразительно описывается А. Л. Витберг, с которым Герцен познакомился в ссылке, и его талантливый и фантастический проект храма в память о 1812 г. на Воробьевых горах.
В 1838 г. Герцена переводят во Владимир.
Часть третья - "Владимир-на-Клязьме" (1838 - 1839)" - романтическая история любви Герцена и Натальи Александровны Захарьиной, незаконной дочери дяди Герцена, воспитывавшейся у полубезумной и злобной тетки. Родственники не дают согласия на их брак; в 1838 г. Герцен приезжает в Москву, куда ему запрещен въезд, увозит невесту и венчается тайно.
В части четвертой - "Москва, Петербург и Новгород" (1840 - 1847)" описывается московская интеллектуальная атмосфера эпохи. Вернувшиеся из ссылки Герцен и Огарев сблизились с молодыми гегельянцами - кружком Станкевича (прежде всего - с Белинским и Бакуниным). В главе "Не наши" (о Хомякове, Киреевских, К. Аксакове, Чаадаеве) Герцен говорит прежде всего о том, что сближало западников и славянофилов в 40-е гг. (далее следуют объяснения, почему славянофильство нельзя смешивать с официальным национализмом, и рассуждения о русской общине и социализме).
В 1846 г. по идеологическим причинам происходит отдаление Огарева и Герцена от многих, в первую очередь от Грановского (личная ссора между Грановским и Герценом из-за того, что один верил, а другой не верил в бессмертие души, - очень характерная черта эпохи); после этого Герцен и решает уехать из России.
Часть пятая ("Париж - Италия - Париж (1847 - 1852): Перед революцией и после нее") рассказывает о первых годах, проведенных Герценом в Европе: о первом дне русского, наконец очутившегося в Париже, городе, где создавалось многое из того, что он на родине читал с такой жадностью: "Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix"; о национально-освободительном движении в Риме, о "Молодой Италии", о февральской революции 1848 г. во Франции (все это описано достаточно кратко: Герцен отсылает читателя к своим "Письмам из Франции и Италии"), об эмиграции в Париже - преимущественно польской, с ее мистическим мессианским, католическим пафосом (между прочим, о Мицкевиче), об Июньских днях, о своем бегстве в Швейцарию и проч.
Уже в пятой части последовательное изложение событий прерывается самостоятельными очерками и статьями. В интермедии "Западные арабески" Герцен - явно под впечатлением от режима Наполеона III - с отчаянием говорит о гибели западной цивилизации, такой дорогой для каждого русского социалиста или либерала. Европу губит завладевшее всем мещанство с его культом материального благополучия: душа убывает. (Эта тема становится лейтмотивом "Былого и дум": см., напр,: гл. "Джон-Стюарт Милль и его книга "On Liberty" в шестой части.) Единственный выход Герцен видит в идее социального государства.
В главах о Прудоне Герцен пишет и о впечатлениях знакомства (неожиданная мягкость Прудона в личном общении), и о его книге
"О справедливости в церкви и в революции". Герцен не соглашается с Прудоном, который приносит в жертву человеческую личность "богу бесчеловечному" справедливого государства; с такими моделями социального государства - у идеологов революции 1891 г. вроде Ба-бефа или у русских шестидесятников - Герцен спорит постоянно, сближая таких революционеров с Аракчеевым (см., напр., гл. "Роберт Оуэн" в части шестой).
Особенно неприемлемо для Герцена отношение Прудона к женщине - собственническое отношение французского крестьянина; о таких сложных и мучительных вещах, как измена и ревность, Прудон судит слишком примитивно. По тону Герцена ясно, что эта тема для него близкая и болезненная.
Завершает пятую часть драматическая история семьи Герцена в последние годы жизни Натальи Александровны: эта часть "Былого и дум" была опубликована через много лет после смерти описанных в ней лиц.
Июньские события 1848 г. в Париже (кровавый разгром восстания и воцарение Наполеона III), а потом тяжелая болезнь маленькой дочери роковым образом подействовали на впечатлительную Наталью Александровну, вообще склонную к приступам депрессии. Нервы ее напряжены, и она, как можно понять из сдержанного рассказа Герцена, вступает в слишком близкие отношения с Гервегом (известным немецким поэтом и социалистом, самым близким тогда другом Герцена), тронутая жалобами на одиночество его непонятой души. Наталья Александровна продолжает любить мужа, сложившееся положение вещей мучает ее, и она, поняв наконец необходимость выбора, объясняется с мужем; Герцен выражает готовность развестись, если на то будет ее воля; но Наталья Александровна остается с мужем и порывает с Гервегом. (Здесь Герцен в сатирических красках рисует семейную жизнь Гервега, его жену Эмму - дочь банкира, на которой женились из-за ее денег, восторженную немку, навязчиво опекающую гениального, по ее мнению, мужа. Эмма якобы требовала, чтобы Герцен пожертвовал своим семейным счастьем ради спокойствия Гервега.)
После примирения Герцены проводят несколько счастливых месяцев в Италии. В 1851 г. - в кораблекрушении погибают мать Герцена и маленький сын Коля. Между тем Гервег, не желая смириться со своим поражением, преследует Герценов жалобами, грозит убить их или покончить с собой и, наконец, оповещает о случившемся общих знакомых. За Герцена заступаются друзья; следуют неприятные сцены с припоминанием старых денежных долгов, с рукоприкладством, публикациями в периодике и проч. Всего этого Наталья Александровна перенести не может и умирает в 1852 г. после очередных родов (видимо, от чахотки).
Пятая часть заканчивается разделом "Русские тени" - очерками о русских эмигрантах, с которыми Герцен тогда много общался. Н. И. Сазонов, товарищ Герцена по университету, много и несколько бестолково скитавшийся по Европе, увлекавшийся политическими прожектами до того, что в грош не ставил слишком "литературную" деятельность Белинского, например, для Герцена этот Сазонов - тип тогдашнего русского человека, зазря сгубившего "бездну сил", не востребованных Россией. И здесь же, вспоминая о сверстниках, Герцен перед лицом заносчивого нового поколения - "шестидесятников" - "требует признания и справедливости" для этих людей, которые "жертвовали всем, что им предлагала традиционная жизнь, из-за своих убеждений Таких людей нельзя просто сдать в архив...". А. В. Энгельсон для Герцена - человек поколения петрашевцев со свойственным ему "болезненным надломом", "безмерным самолюбием", развившимся под действием "дрянных и мелких" людей, которые составляли тогда большинство, со "страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения" - и притом с плачевной бесплодностью и неспособностью к упорной работе, раздражительностью и даже жестокостью.
После смерти жены Герцен переезжает в Англию: после того как Гервег сделал семейную драму Герцена достоянием молвы, Герцену нужно было, чтобы третейский суд европейской демократии разобрался в его отношениях с Гервегом и признал правоту Герцена. Но успокоение Герцен нашел не в таком "суде" (его и не было), а в работе: он "принялся за "Былое и думы" и за устройство русской типографии".
Автор пишет о благотворном одиночестве в его тогдашней лондонской жизни ("одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями, я много прожил") ; это было одиночество среди толпы: Англия, гордящаяся своим "правом убежища", была тогда наполнена эмигрантами; о них преимущественно и рассказывает часть шестая ("Англия (1852 - 1864)").
От вождей европейского социалистического и национально-освободительного движения, с которыми Герцен был знаком, с некоторыми - близко (гл. "Горные вершины" - о Маццини, Ледрю-Роллене, Кошуте и др.; гл. "Camicia rossa" о том, как Англия принимала у себя Гарибальди - об общенародном восторге и интригах правительства, не желавшего ссориться с Францией), - до шпионов, уголовников, выпрашивающих пособие под маркой политических изгнанников (гл. "Лондонская вольница пятидесятых годов"). Убежденный в существовании национального характера, Герцен посвящает отдельные очерки эмиграции разных национальностей ("Польские выходцы", "Немцы в эмиграции" (здесь см., в частности, характеристику Маркса и "марксидов" - "серной шайки"; их Герцен считал людьми очень непорядочными, способными на все для уничтожения политического соперника; Маркс платил Герцену тем же). Герцену было особенно любопытно наблюдать, как национальные характеры проявляются в столкновении друг с другом (см. юмористическое описание того, как дело французов дуэлянтов рассматривалось в английском суде - гл. "Два процесса").
Часть седьмая посвящена собственно русской эмиграции (см., напр., отдельные очерки о М. Бакунине и В. Печерине), истории вольной русской типографии и "Колокола" (1858 - 1862). Автор начинает с того, что описывает неожиданный визит к нему какого-то полковника, человека, судя по всему, невежественного и вовсе нелиберального, но считающего обязанностью явиться к Герцену как к начальству: "я тотчас почувствовал себя генералом". Первая гл. - "Апогей и перигей": огромная популярность и влияние "Колокола" в России проходят после известных московских пожаров и в особенности после того, как Герцен осмелился печатно поддержать поляков во время их восстания 1862 г.
Часть восьмая (1865 - 1868) не имеет названия и общей темы (недаром первая ее глава - "Без связи"); здесь описываются впечатления, которые произвели на автора в конце 60-х гг. разные страны Европы, причем Европа по-прежнему видится Герцену как царство мертвых (см. главу о Венеции и о "пророках" - "Даниилах", обличающих императорскую Францию, между прочим, о П. Леру); недаром целая глава - "С того света" - посвящена старикам, некогда удачливым и известным людям. Единственным местом в Европе, где можно еще жить, Герцену кажется Швейцария.
Завершают "Былое и думы" "Старые письма" (тексты писем к Герцену от Н. Полевого, Белинского, Грановского, Чаадаева, Прудона, Карлейля). В предисловии к ним Герцен противопоставляет письма - "книге": в письмах прошлое "не давит всей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим". Так понятые письма похожи и на всю книгу воспоминаний Герцена, где он рядом с суждениями о европейской цивилизации попытался сберечь и то самое "случайное" и "будничное". Как сказано в XXIV гл. пятой части, "что же, вообще, письма, как не записки о коротком времени?".
К стопятидесятилетию со дня рождения А. И. Герцена
Каждый большой художник, говорил Лев Толстой, создает и новую форму произведения.
Желая подтвердить свою мысль, Толстой назвал такие книги: «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Записки охотника» Тургенева, «Записки из мертвого дома» Достоевского и «Былое и думы» Герцена.
У этих книг, столь различных по содержанию и стилю, существует действительно одно общее свойство: каждая поражает необычностью построения, новизной повествовательной формы. Гоголь назвал свою многолистную прозу не романом, не повестью, а поэмой. Что такое «Записки из мертвого дома» — художественный вымысел или истинное происшествие? Что такое «Герой нашего времени» — сборник рассказов или единая повесть?
Читая «Былое и думы», тоже невольно задаешь себе вопрос: что же это за книга? Автобиография это или роман? Вымысел или правда? С того дня, когда книга Герцена вышла в свет, много появилось замечательных творений, но по-прежнему, как и в первый день своего появления, она осталась необычной, единственной в своем роде, ее по-прежнему не сопоставишь ни с чем ни в русской, ни в мировой литературе, ни в настоящем, ни в прошлом. Трудно подобрать ей имя. Автобиография? Но, кроме биографии ее автора, в ней слишком много чужих биографий. Повесть о любви, роман? Но все ее герои не вымышленные, а действительно существовавшие люди, и события, о которых она повествует, тоже события реальные, действительно совершившиеся в истории… Мемуары, воспоминания? Но обычно, читая мемуары, мы чувствуем, что жизнь, размышлениями о которой с нами делится автор, отбушевала, прошла; прошла уже не только для нас, но и для самого пишущего. Герцен же в своих мемуарах рассказывает о давних событиях детства, юности, молодости с такою взволнованной непримиримостью, словно давнее случилось вчера, словно оно живо для него.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней.
Эти пушкинские строки о печали, не исчезающей, но крепнущей с годами, могли бы стать эпиграфом к «Былому и думам».
«Это — просто ближайшее писание к разговору, — объяснял он, — тут и факты, и слезы, и хохот, и теория…»
Но чаще он именовал свои записки исповедью, — и это самое точное, что сказано о сущности и форме «Былого и дум». «Былое и думы» — действительно исповедь, подробная и полная исповедь человека, желающего рассказать о пройденном им пути, ничего не утаив от своих слушателей, как можно точнее, и главное, как можно откровеннее.
Жизнь Герцена была богата событиями — оттого в его исповеди так много людей, городов, стран, драматических эпизодов; она была богата мыслью и чувством — оттого в «Былом и думах» так много философских рассуждений и лирических излияний; и целью автора было рассказать о себе все до конца, до самого дна души, погружаясь в себя как можно глубже и передавая даже те оттенки своих мыслей и чувств, которые, по его выражению, «слово… плохо берет»; — вот почему стиль его записок так многообразен и порой необычен: для новой, небывалой в литературе степени откровенности требовалось новое, небывалое слово.
Герцен начал писать воспоминания в 1852 году. К этому времени он был уже известный писатель, автор публицистических, философских и беллетристических произведений. Конечно, читая «Былое и думы», чувствуешь, что они вышли из-под одного и того же пера, что и роман «Кто виноват?» и повесть «Сорока-воровка»; мы видим то же сочетание глубины и блеска мыслей, юмора и патетики; узнаем тот же «осердеченный ум», о котором когда-то писал Белинский, не доживший до создания герценовской исповеди. Но в многотомном наследии Герцена есть произведения, которые гораздо теснее связаны со стилем «Былого и дум», чем его беллетристика. Стиль и манера «Былого и дум» более всего сродни самым непосредственным, самым интимным из всех произведений Герцена — его письмам.
Герцен был человек подвижный, общительный, живой, остроумный. Познакомившись с ним, Толстой удивлялся «внутреннему электричеству, исходившему от него». «Неугасающий фейерверк его речи, — вспоминал приятель Герцена, Анненков, — неистощимость фантазии и изобретения, какая-то безоглядная расточительность ума приводили в изумление его собеседников».
В барской, помещичьей, косной среде, где Герцен родился и рос, он чувствовал себя чуждым, одиноким и скованным, тем сильнее томила его жажда общения с людьми, которые были родными не по крови, а по духу. Дружба Герцена и Огарева, зародившаяся в отрочестве, оказалась пожизненной. В станкевичском, в герценовском круге существовал культ дружбы, товарищеские, братские, откровенные отношения. Друзья ежедневно по многу часов проводили вместе; каждая мысль, каждое чувство, пережитое одним, быстро становилось достоянием всего кружка; и в разлуке обмен мыслей и чувств не прекращался: беседы и споры, откровенные отчеты о каждом движении души продолжалось в письмах. (Письма Белинского к Боткину, Бакунину, Анненкову, Герцену — письма, совершенно лишенные светскости, присущей дружеской переписке людей предыдущего поколения; письма, «где все наружу, все на воле», занимают каждое многие десятки страниц). В герценовском собрании сочинений письмами к друзьям заполнено более десяти томов. «Страстная дружба вызывает на переписку, она растет и делается какой-то движущей раскрытой исповедью», — говорил Герцен. Открывать себя в письмах было для Герцена так необходимо и так естественно, что, случалось, он писал письма не только в другой город или в другую улицу, но и в другой конец коридора одной и той же квартиры или в другой этаж одного и того же дома. Многие его публицистические статьи написаны форме писем: «Письма из Франции и Италии», «Письма к старому товарищу», к «будущему другу», к «противнику»; интересно отметить, что, становясь из личного письма публицистической статьей, адресованной уже не одному, а тысячам читателей, они не теряли задушевности, интимности тона. Все они в этом смысле родственны знаменитому письму Белинского к Гоголю: частное письмо Виссариона Григорьевича к Николаю Васильевичу в списках пошло по рукам, потом было напечатано и быстро обратилось из частного письма в могучее произведение русской публицистической литературы.
Статья, созданная в виде письма, как форма литературного творчества была привлекательна для Герцена именно тем, что она давала ему возможность воспроизводить в написанном слове живую интонацию непосредственной устной речи, воплощать то «внутреннее электричество», тот «фейерверк», которые он, по воспоминаниям современников, постоянно расточал в разговоре. Статьи Герцена, письма и в большей степени «Былое и думы» испещрены кавычками и курсивом, изобилуют скобками, сносками — все эти внешние средства призваны воспроизвести непринужденность дружеской застольной беседы, свободно перебегающей с предмета на предмет. «Я, впрочем, вовсе не бегу отступлений… — писал Герцен в «Былом и думах», — так идет всякий разговор, так идет самая жизнь». Одну из своих публицистических книг — «С того берега» — он называл «разговором» («Разговоры… мои имели большой успех»), а в полном тексте «Былого и дум» есть немало страниц, свидетельствующих, что первоначально мемуары эти были задуманы как письмо — письмо-исповедь, адресованное друзьям. Начатое после глубоких потрясений, писанное в течение многих лет, внутренне адресованное людям, которые стали далеки уже не только далью чужих земель и морей, но и далью разошедшихся мнений, — оно заняло не десятки страниц, а три толстых тома.
…Из многочисленных произведений Герцена «Былое и думы» связаны с личностью автора более всех. «Былое и думы» — точный, без ретуши, смелый и законченный автопортрет.
Каждая страница, чему бы она ни была посвящена, обнажает все очертания сложной, богатой, трагической душевной жизни самого автора. Тут он весь — революционер, мыслитель, человек. Тут он весь, полный любви и негодования, тяжелых раздумий; весь — с насмешкой, скорбью и гневом, и даже больше того — со своим голосом, смехом, походкой. Кажется, что видишь, слышишь его самого — человека подвижного, быстрого, с высоким лбом и маленькими энергическими руками, коренастого, широкоплечего, шумного; того Герцена, который умел быть резким, холодно-учтивым и язвительным с председателем «Высочайше учрежденной комиссии», с шефом жандармов, с губернатором, и таким открытым, добродушным, щедрым и ласковым в дружеском тесном круге; того Герцена, который умел за бутылкой вина произнести импровизированный философский трактат и закончить его каламбуром и шуткой… В «Былом и думах» весь Герцен — философ, художник, революционный борец; Герцен — влюбленный юноша и Герцен — оплакивающий смерть близких и гибель революции; Герцен — ребенок и Герцен — мужающий революционный трибун; Герцен — лирик и Герцен — мастер сатиры. Но и этого мало: книга его не была бы великим произведением искусства, если вместе с жизнью и обликом автора, она не воспроизвела бы жизнь и облик целого поколения, если, являясь автобиографией одного человека, она не была бы в то же время страницей из «биографии рода человеческого».
Александр Иванович Герцен родился в Москве сто пятьдесят лет назад в апреле 1812 года. На тот период истории, который ему довелось пережить, падают мощные революционные взрывы и страшные поражения революции.
Он пережил восстание декабристов, а затем — казнь восставших и мертвящее царствование Николая; пережил победоносную европейскую революцию 1848 года, а затем — июньские расстрелы парижских рабочих и «тупую, трусливую, выжившую из ума» реакцию. Издалека стал он участником революционной борьбы в России в шестидесятых годах и затем — гневным изобличителем расправы нового царя с русскими крестьянами, с университетом и литературой, с восставшими поляками. Перечень исторических событий, совершившихся на Западе и в России в те без малого шестьдесят лет, которые совпали с жизнью Герцена, мог бы одновременно послужить оглавлением «Былого и дум». Борьба итальянского народа за свою национальную независимость; борьба поляков с царизмом; французские революционеры на баррикадах; портреты русских деятелей: Белинского, Грановского, Чаадаева, Бакунина — и рядом с ними Гарибальди, Мадзини, Ворцеля, Ледрю-Роллена, Роберта Оуэна… Розни между «частным» и «общим» Герцен никогда не знал; его личная исповедь есть в то же время страница из истории Европы; он был революционером, борцом; и «Былое и думы» — исповедь, история — звучат в то же время как страстная политическая проповедь.
Сам Герцен днем своего второго рождения считал день гибели декабристов. В 1825 году ему было всего 13 лет. Он «опоздал на площадь», он был еще подростком, когда Николай пушечными залпами отпраздновал свою «победу над пятью». Залпы эти навсегда остались в ушах Герцена. Залпы разбудили его ум, дали толчок сознанию. Герцен и его друг Огарев рано осознали себя борцами и однажды, в отрочестве, на склоне летнего дня, поклялись, глядя на Москву с Воробьевых гор, отдать жизнь избранной ими борьбе.
«Мы все, наше поколение, были слишком юны, чтобы принимать участие 14 декабря, — пишет Герцен в одной из статей. — Разбуженные этим великим днем, мы видели только казни и ссылки. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредотачиваться, скрывать свои думы, — и какие думы!»
«Десять лет неумолимого, леденящего гнета открывают мрачное царствование Николая, — пишет он в другом месте. — Царил ужас. Мысль, загнанная в глубь сердца, обреченная на молчание, пропитывалась ядом, отравлялась. Невозможно было осмотреться, взвесить положение и заключить, что следует делать — и мы принялись за науку».
Дворянские революционеры, к числу которых принадлежал Герцен, не были и не могли быть людьми революционного действия: дети сановников и помещиков, они были слишком далеки от народа. Да и сам народный взрыв в России предстоял еще далеко впереди. «Мы принялись за науку». Деятельность Герцена и его друзей совершалась в сфере умственной; вот почему повесть о деятельности этого поколения, заключенная в «Былом и думах», это прежде всего рассказ об идеях, о росте, развитии, крахе старых и возникновении новых верований. Дружба, которой так щедро отдавался Герцен, была далека от пустого приятельства; друзей роднили «общечеловеческий интерес» и деятельные попытки «развить философию и жизнь». Это была дружба борцов, соратников, уважавших друг в друге «сосуды избранные, предназначенные». Нарождающемуся революционному сознанию в России, искавшему выхода из чудовищной николаевской действительности, необходима была революционная теория; Герцен и Белинский всей своей литературной, публицистической, философской деятельностью создавали ее. Революционная мысль Герцена, Огарева, Белинского, противопоставленная реакционной политической мысли Гегеля; споры Герцена и его друзей со славянофилами и разоблачение всего рабьего, отжившего, косного, что содержалось в философской и политической доктрине славянофильства; разочарование в учениях буржуазных революционеров Европы, мучительные поиски новых путей, страстные поиски философской и политической истины — вот один из основных мотивов сюжета «Былого и дум». Мысль, идея, которую ищут, находят, отвергают, за которую борются, — вот одна из главных героинь «Былого и дум», наравне с Наташей Захарьиной.
Занятия наукой, т. е. естествознанием, историей и прежде всего философией, «для нас не составляли постороннее, — пишет Герцен, — а истинную основу жизни». Наука была для Герцена «центром… нравственной тяжести», «живою частью… бытия» и всегда борьбой, борьбой за тот практический результат, за тот жизненный, общественный вывод, который обязана была сделать отважная, революционная мысль, верная назревшим потребностям народа. Все научные, философские труды Герцена призывали к мужеству мысли, к умению не отворачиваться от истины даже тогда, когда она грозит разлучить тебя с любимыми людьми и душевным покоем. «… В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно», — писал он… «Казнить верования не так легко, как кажется: трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали…»
Первое крупное испытание мужества и зрелости мысли, способности отказаться от привычного и утешительного, если оно «не истинно», постигло герценовский кружок в 1846 году и описано им в той главе «Былого и дум», которая называется «Начало разномыслия». Легкий туман мистицизма, неясной, возвышенной веры, утешающей, уводящей от действительной жизни, для самого Герцена в то время уже рассеялся; знаменитые статьи «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» были уже им написаны; реакционные стороны учения Гегеля разоблачены. Гегель «боялся идти до последнего следствия своих начал; — писал Герцен в статьях «Дилетантизм в науке», — у него недоставало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила». Верный своей борьбе против крепостничества и царского самовластия, верный идее социализма, воспринятой с юности, Герцен отбросил реакционные выводы, которые привели германского философа к обожествлению деспотической прусской монархии, и шагнул вперед: в сторону материализма в философии, в сторону утверждения социализма в политике. «… Развитие науки… современное состояние ее обязывает нас к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет», — твердил своим друзьям Герцен. Но скоро он разглядел, что даже такие близкие ему люди, как, например, Грановский, не имеют достаточной «отваги знания» и не принимают некоторых научных выводов, не принимают не потому, что выводы эти представляются им непоследовательными, а только потому, что они не нравятся им, путают их. Грановский, в частности, во что бы то ни стало желал сберечь веру в бессмертие души, потому что ему довелось схоронить любимых людей и слишком страшно было отказаться от надежды на свидание с ними за гробом. Он не мог повторить вместе с Герценом: «пусть оно лишит меня последних утешений», но я «избираю знание…»
«Мы должны были дойти до пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся», — пишет Герцен. Не случайны были эти отвлеченные споры, не случайно одни из друзей «прошли», а другие «зацепились». Через десять лет многие друзья Герцена оказались противниками его революционной пропаганды, через пятнадцать — перешли в лагерь охранителей самодержавного строя…
В 1847 году Герцен уехал за границу. И тут совершилось новое испытание его «храбрости в истине», еще более суровое, чем все предыдущие. Так называемые «заграничные» части «Былого и дум», части, посвященные гибели революции 1848 года, — это исповедь человека, которому пришлось собрать все силы души и ума, чтобы расстаться с надеждами целой жизни. Герцен и его друзья с надеждой смотрели на Запад и ждали, что именно там, на Западе, разрешится социальный вопрос, оттуда явится в мир справедливость. Мы любили Запад «всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам», — говорил Герцен. Спасшись в Европу от деспотизма Николая I, Герцен действительно сделался свидетелем могучей революции. В январе 1848 года одно за другим вспыхнули восстания в городах Италии, порабощенной австрийцами; в феврале улицы Парижа покрылись баррикадами, французский король Луи-Филипп вынужден был отречься от престола, и под напором вооруженного пролетариата во Франции была провозглашена республика; в марте восстали крестьяне в Южной Германии: демократические правительства образовались в Бадене, Вюртемберге, Баварии; наконец, восстали Берлин и Вена. «Вся Европа взяла одр свой и пошла в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение», — писал впоследствии об этом времени Герцен. Он был участником революционных демонстраций в Италии, затем во Франции, в Париже. Он ожидал, что французская республика обернется лицом к народу, уничтожит насилие, деспотизм, произвол, а она у него на глазах расстреляла народ и создала новый деспотизм, новую жандармерию, не менее кровожадную, чем николаевская, которую Герцен не уставал проклинать. В июне 1848 года в Париже восстали рабочие, буржуазия свирепо расправилась с ними. Герцен видел омнибусы, наполненные трупами, слышал залпы расстрелов и плакал на пустых баррикадах, еще теплых от крови. Июньская бойня в Париже послужила сигналом реакции: в Италии, в Венгрии, в Австрии усмирители разгоняли парламенты, восстанавливали власть папы, императора, королей. Во Франции 2 декабря 1851 года Наполеон III объявил себя императором. С революцией было покончено надолго.
Расстрелы рабочих, ссылки и казни революционеров, бесчинства полиции поразили многих, но Герцен был одним из тех, кто имел смелость понять, что повержены не только люди, но и теории, и знамена, и лозунги, что от буржуазной революции народ больше не ждет ничего.
«Вещи, которые я никогда не считал возможными в Европе, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, сделались обыкновенны, ежедневны, не удивительны, — писал он в своих знаменитых «Письмах из Франции и Италии». — Глубоко огорченный, я остался досматривать преступление осадного положения, ссылок без суда, тюремных заключений вне всяких прав, военно-судных комиссий… Бедный героический народ… Если бы вы видели, какой он стал грустный, печальный после июньских дней. По улицам ходить страшно: там, где кипела жизнь, где громкая марсельеза раздавалась среди других песен с утра до ночи, там теперь тишина, — разносчик газет не смеет кричать, бледный блузник сидит перед дверью пригорюнившись, женщина в слезах возле него, они разговаривают в полслуха, осматриваясь. К ночи все исчезает, улица пуста, и мрачный патруль подозрительно обходит свой квартал с заряженными ружьями…»
И вот вывод, на который он имел храбрость решиться:
«Время либеральной партии и политических республиканцев прошло: им нечего сказать, им нечего делать, их республика оттого и не стоит, что не может стоять… — народу до нее нет дела».
Герцен понял, что народу все равно, называется ли власть «монархией» или «республикой»; народ жаждет не той революции, которая заменит одну форму власти буржуазии другой, а подлинной революции, социальной. Пути наступления этой революции Герцен уловить был не в силах; он начал различать их, угадывать только к самому концу своей жизни. Вот почему сделанное им после 1848 года открытие, что «идеи, знамена, теории, стремления — все износилось», наполнило его жизнь глубоким и острым ощущением трагедии. Вот почему в «заграничных» частях «Былого и дум» так много мрачных, резких, проникнутых горечью страниц. Тут все темно и жестко, сухо, отрывочно, резко — смех, если и звучит, то недобрый, жесткий смех. Не только гибель матери, сына и жены потрясли Герцена, не только крушение революции, но и крушение надежды. С завистью говорит он о Белинском, скончавшемся в 1848 году: «весть о февральской революции еще застала его в живых; он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!»
Герцен угадал, что это не «утро», а неотвратимо и надолго наступающий «вечер». Откуда и когда снова взойдет революция — с полной ясностью он еще не мог различить. Обманывать себя и надеяться, как другие, что победа реакции — дело случайное, временное, что не сегодня-завтра народ снова поднимется, снова пойдет за своими прежними вождями, он не хотел и не мог. В его глазах, как и в глазах народа, прежние пути, прежние учителя и учения разоблачили себя. Новых же путей, открытых Марксом и Энгельсом, он еще не видел.
Вот почему ему стало больно дышать.
«Духовная драма Герцена, — писал о Герцене В. И. Ленин, — была порождением и отражением той всемирно исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела».
После черных страниц, повествующих о страшных июньских днях в Париже, о смерти матери и сына, о смерти жены, переезде в Лондон и о суровом одиночестве в Лондоне, в записках Герцена следуют страницы, снова освещенные надеждой.
Герцен начинает рассказ о новой эпохе своей жизни, о том времени, когда он стал не только писателем и мыслителем, но и трибуном.
Герцен не скрывал от друзей и врагов своих мрачных раздумий о судьбах Европы. «Несостоятельность политической революции в Европе и незрелость социальной бросаются в глаза», — писал он, на все лады повторяя в своих статьях эту мысль. Но мало кто имел силы согласиться с ним. Буржуазные демократические революционеры, среди которых жил на Западе Герцен, развенчанные и разбитые, желали верить, что они все еще впереди, что будущее принадлежит им. «Вы — прошлое!» — упорно твердил им Герцен. Оскорбляясь, они его же упрекали в непоследовательности.
Человек, который так понимает современную Европу, как вы, говорили ему, должен бросить ее. «Отчего же вы этого не делаете?» Его спрашивали, почему он не уезжает в Америку или на Сандвичевы острова, если Европа, по его мнению, «оказала полную неспособность к социальному перевороту?»
«…Один честный немец, — возражал Герцен своим собеседникам, — прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности: «У меня в Швабии есть свой король». «У меня в России есть свой народ!»
Насильственно отторгнутый от своего народа, Герцен нашел способ служить ему. В 1853 году он основал в Лондоне «Вольную русскую типографию» — первый в мире русский бесцензурный станок. Ненавидя царское самодержавие и Николая I неутомимой ненавистью, Герцен любил и уважал русский народ и верил в его великое будущее. Пути к завоеванию этого будущего не всегда были открыты ему, — так, он возлагал ложные надежды на мнимую революционность сельской общины, — но при всех заблуждениях роль его в подготовке грядущего восстания народа была велика.
«Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — писал Герцен, — это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему и желание деятельно участвовать в его судьбах».
«Я не затем оставил родину, чтобы искать себе другой, — пишет он в «Былом и думах», — я всем сердцем люблю народ русский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения»…
Праздным он и не стал. В «заграничных» частях «Былого и дум» Герцен подробно рассказывает о «своей службе русскому народу», как называл он свою издательскую деятельность. Эта «служба» воспитала целое поколение русских революционеров и дала Герцену счастливое право сказать о себе перед смертью: «Семена, которые достались в наследство небольшому числу наших друзей и нам от наших великих предшественников, мы бросили в новые борозды и ничто не погибло».
«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского…» — писал Ленин о публицистической деятельности Герцена.
Началась она в 1853 году, но полное развитие получила лишь после смерти Николая I, после 1855 года. Организовав типографию, Герцен печатал брошюры, книги, воззвания, но они почти не проникали в Россию, и он года два работал без живой связи с родиной, почти без отклика. И вдруг все переменилось. Связи с Россией окрепли, работа приобрела смысл и размах.
«Утром 4 марта, — вспоминает Герцен на одной из счастливейших страниц «Былого и дум», — я вхожу, по обыкновению, часов в 8 в свой кабинет, развертываю «Таймс», читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавии телеграфической новости: «Смерть императора России». Не помня себя, бросился я с «Таймсом» в руке в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им газету… Несколько лет сваливалось у меня с плеч долой, я это чувствовал… Кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали… меня поздравить.
…На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видел ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии…
Смерть Николая удесятерила надежды и силы».
Герцен начал издавать альманах «Полярная звезда» (названный так в честь альманаха декабристов), а после того, как, вырвавшись из России, в Лондон приехал к нему «друг Воробьевых гор» Огарев, — газету «Колокол», сыгравшую огромную роль в революционном движении пятидесятых и шестидесятых годов.
«…Наставало утро того дня, к которому стремился я с тринадцати лет — мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же «злоумышленником»… в маленькой комнате «старого дома»; в университетской аудитории, — окруженный горячим братством; в тюрьме и ссылке; на чужбине, проходя разгром революций и реакций; наверху семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным монологом. Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами, и уносившее с собой отроческую клятву, выходило после двадцатилетней ночи…
Какой же тут покой и сон… За дело! И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве: громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из России… Непривычное ухо русское примирилось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность».
…Со смертью Николая в России настало другое время, и это издали почувствовал Герцен: «из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты; чуялось какое-то движение». Чутье не обмануло Герцена. В России со смертью Николая, веревки, глубоко врезавшиеся в тело народа, слегка ослабели. В деревнях поднимались крестьяне, в городах бурлили университеты. Правительство Александра II вынуждено было заговорить об «освобождении крестьян». Нарождавшейся революционной России требовался постоянный орган. Таким органом в пятидесятые годы и стал «Колокол». Герцен повел борьбу за освобождение крестьян с землей, за уничтожение цензуры, за уважение человеческой личности. У него было одно только оружие — слово, но он безгранично верил в него и владел им, как никто. Кажется, не существовало во всем мире человека, более глубоко верующего в силу слова и более страстно ненавидящего покорное молчание. Молчание для Герцена — синоним рабства. Он писал о «сообщничестве молчанием». Он писал, что «молчание — знак согласия»; оно выражает «сознанную безвыходность», «склонение головы». «Немота поддерживает деспотизм; то, что не осмеливаешься высказать, нужно считать лишь наполовину существующим». И, напротив, вольную речь Герцен чтил как высший знак человеческого достоинства — «недаром за нее люди отдают жизнь…» «Всякое слово человека преданного есть дело». «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло».
Сам он явился бесстрашным нарушителем молчания. Целые годы им, его пером, его словом, питалось и поддерживалось революционное дело в России.
Не было такого крепостника, которого Герцен не ошельмовал бы всенародно. Не было такого царского холопа, которого он не поднял бы на смех, когда тот слишком усердствовал в своем холопстве. Не было такого злодейства, совершенного во мраке канцелярской тайны, которого Герцен не вытащил бы на свет и не показал всему миру. Не было такого революционера, павшего в неравной борьбе с царизмом — крестьянина ли, поднявшегося за землю и волю, студента, офицера или литератора, заступившегося за русских крестьян или за восставших поляков, которого Герцен не почтил бы поминальным звоном своего «Колокола». Созданные им некрологи или гневные сообщения о правительственных карах звучали как настоящие призывы к действию, как прокламации. Оплакивая мертвых или поверженных бойцов с самодержавием, он звал живых на борьбу. Взрыв негодования вызвало в нем известие об аресте Чернышевского, и строки, посвященные этому событию в «Колоколе», набатом зовут на бой. Герцен полемизировал с Чернышевским и в этой полемике был горестно неправ; но когда Чернышевского, вождя революционных демократов, царское правительство приговорило к гражданской казни и каторжным работам, когда Чернышевского выставили на площади у позорного столба, — грозные слова были найдены Герценом в защиту осужденного, слова — удары грома, карающие общего врага:
«Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику… А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами…»
«…Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом», — писал о Герцене Ленин.
Девизом «Колокола» было «Зову живых». Мимо всех жандармских кордонов слово Герцена неуклонно проникало туда, где оно было нужно, как хлеб, — в Россию; а из России в ответ прибывали статьи, известия, письма. Читатели «Колокола» были в то же время его корреспондентами. Рискуя оказаться в тюрьме, они хранили герценовские издания, переписывали, передавали их из рук в руки и снабжали Герцена сведениями обо всем, что творилось на родине.
«Мы посмотрим, кто сильнее — власть или мысль, — писал Герцен. — Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию или правительству не пропустить ее».
Мысль оказалась сильнее. Мысль Герцена проникала в наглухо законопаченную страну и находила понимание и отклик. «Были письма, от которых слезы навертывались на глазах…» — вспоминает Герцен.
Он не цитирует писем. Но некоторые из них сохранились до нашего времени. Приведем одно, посланное молоденькой девушкой, курсисткой:
«Говорите, Герцен, мы слушаем вас, мы ждем от вас слова, как в засуху ждут дождя, как корабли, стоящие на якоре, ждут ветра. Говорите, вас слушает вся Россия!»
Герцен обращался к России, но прислушивались к его слову не только русские. Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко занес себе в дневник о русском критике благоговейные строки. «Апостолом истины» называл он Герцена, а герценовские статьи «сердечным задушевным человеческим словом». Общество сербской словесности избрало Герцена наряду с Н. Г. Чернышевким в свои почетные члены. Поляки писали, что изучают русский язык, чтобы понимать свободное русское слово — слово Герцена.
Впервые на русском языке услышали задавленные царизмом славянские народы открытый призыв к братскому союзу демократии и равноправных славянских государств.
Герцен заставил прислушаться к себе и западных демократов — единомышленников французских революционеров. Передовые люди Запада ценили в нем борца с наглым самовластием Николая, уважали в нем друга итальянцев, борющихся против австрийского ига, сподвижника французских патриотов, защитника греческой Польши. «…Я рукоплещу вам и люблю вас», — написал Герцену Виктор Гюго в дни польского восстания, когда Герцен выступил в «Колоколе» со статьями в защиту поляков.
В самом деле, эти статьи, обратившие на него ненависть не только махровых русских реакционеров, но и либералов, считавших себя его поклонниками, были со стороны Герцена актом большого революционного мужества.
Герцен смело возвысил свой голос в защиту национально-освободительного движения в Польше: «Когда вся орава русских либералов, — писал В. И. Ленин, — отхлынула от Герцена за защиту Польши, и когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей, Александра II. Герцен спас честь русской демократии». Герцен призывал русских солдат и офицеров не поднимать оружия против восставших, он пророчествовал о будущем свободном союзе вольной Польши и вольной России. Он утверждал, что, защищая Польшу, он тем самым борется за Россию, страну будущего.
«Мы с Польшей, потому что мы за Россию, — писал он. — Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цель сковывает нас обоих».
Напрасно казенная русская пресса обливала Герцена потоками грязи, называя его изменником отечества, — он продолжал свою речь. Ответом ему были письма польских борцов за свободу, восторженные и благодарные адреса, подписанные сотнями рук. В России верные слуги царя провозглашали заздравные тосты в честь Муравьева — Герцен из номера в номер публиковал в «Колоколе» известия о злодействах этого палача, называя его «бешеным бульдогом», спущенным на несчастный край.
И хотя часть русского общества, ранее сочувствовавшая Герцену, сбитая с толку воплями реакционных газет, отшатнулась от «Колокола», Герцен с гордостью писал:
«Придет время, не «отцы», так «дети» оценят и тех трезвых и тех честных русских, которые одни протестовали и будут протестовать против гнусного умиротворения… Память того, что не вся Россия стояла в разношерстном стаде Каткова, останется».
Память о Герцене, великом русском писателе, великом революционере, защитнике порабощенных народов, осталась. Повсеместное чествование Герцена, осуществляемое по решению Всемирного Совета Мира, — еще одно тому доказательство.
«Былое и думы» — самое значительное и самое совершенное из произведений Герцена. Около двух десятилетий работал он над созданием своего шедевра.
Белинский назвал пушкинского «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни». С полным правом это определение можно отнести и к мемуарам Герцена. Россия царских смотров, затхлых присутственных мест и голубых жандармов; Россия университетов; Россия Пушкина и передовой философской, научной и политической мысли; Россия рудников, каторги и революционного подвижничества — «энциклопедия русской жизни» середины XIX века — вот что такое первые части «Былого и дум». Покинув родину после многолетних жандармских преследований, Герцен как бы взял ее всю с собой: с ее полянами, пашнями, березовыми рощами, людьми. Стоило ему оказаться среди природы, за городом — в Швейцарии, Италии, Франции, Бельгии, — и он бессознательно начинал отыскивать запах овина или прелого листа, которым когда-то в юности дышал в родной усадьбе. Ему часто казалось, что стоит только завернуть за поворот дороги, и он увидит тот самый холм, ту самую рощу, которую любил ребенком, но за поворотом неизменно оказывались сады Версаля или круглое горное швейцарское озеро; и чтобы вернуться на родину, ему был оставлен один только путь — писать.
В Париже, в Лондоне, в Ницце, переезжая из города в город, он писал о Москве, смирительнице Наполеона; о русских студентах, самоотверженно боровшихся с холерой; о старом раскольнике, бесстрашно глядящем в глаза императору Павлу; о русской песне; о Пушкине; писал о злодеях-чиновниках, сосущих «кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых»; о жандармах, засекающих в застенках ни в чем не повинных людей; о Николае — «взлызистой медузе с усами», «бревне, брошенном на дороге человечества», «тормозе на всяком колесе России», — и снова и снова на страницах своих воспоминаний возвращался к образам декабристов, к портретам Белинского, Чаадаева, Грановского, Огарева, Щепкина, Александра Иванова. Эти люди были для него не только друзьями, но и «свидетельством о той непочатой, цельной натуре русской, которою, — как писал он, — мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и за которую, вопреки всему, делающемуся у нас, мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее будущность!»
О передовых русских людях Герцен писал с гордостью: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде… А я много ездил, везде жил и со всеми жил…» Портретная галерея замечательных русских людей, созданная Герценом в «Былом и думах», обширна, изобразительная сила ее не слабеет с годами. Герцен заставляет нас видеть своих героев так отчетливо, как будто не он один, а мы сами когда-то знавали их и теперь с любовью припоминаем подробности их «московского житья». В портретном мастерстве Герцен достигает вершин искусства. Человек, его нрав, его речь, его наружность — все дано в органической связи с главным делом жизни этого человека. Портрет Чаадаева — это характеристика его знаменитого «Философического письма», портрет Белинского — его боевой журналистики, портрет Грановского — его лекций. И в то же время это не рассказ о деятельности, а изображение живого лица: портрет.
Язык «Былого и дум» Тургенев назвал когда-то «до безумия неправильным» и тут же признавался, что «упивается» им. Со стороны менее чутких современников язык герценовских произведений постоянно вызывал нарекания. Не все понимали, что каждый гениальный писатель творит не только на языке своего народа, скажем, на русском, но и на своем, им самим созданном, до него никогда не существовавшем: Гоголь на гоголевском, а Толстой на толстовском. «Былое и думы» необычайно разнообразны по самому своему содержанию, по материалу; сколько тут людей, стран, городов; сколько мыслей, идей, чувств; сколько событий — событий личной жизни и исторических! Этому богатству соответствует и бесконечное разнообразие тона, причудливость синтаксических и словесных форм в речи героев и в речи самого автора. Герцен воспроизводит характерную речь даже случайных, только на минуту появляющихся персонажей с такой точностью, с такой осязаемостью внутреннего жеста, какой позавидовал бы любой романист: речь ямщика, знатной придворной дамы, подгулявшего студента, деревенского старосты.
«Напрасно-с, ей-богу, напрасно-с утруждаете генерала; скажут: беспокойные люди, — вам же вред, а пользы никакой…» — говорит пристав Пречистенской части, и этих трех строк Герцену достаточно, чтобы изобразить полицейского чиновника, основа души которого, как и всякого чиновника, трепет — постоянный трепет перед начальством.
Проза Герцена насыщена мыслью, но мысль нигде не превращается в сухую абстракцию — она всюду наглядна, конкретна, зрима, всюду одета плотью образа, согрета жаром темперамента и чувства.
Проза Герцена — это исповедь и проповедь вместе; лирический шепот крепнет и перерастает в мерные звучные периоды ораторской речи, прерываемые восклицаниями и патетическими призывами:
— Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!
— Занавес! Занавес!
Порою речь течет ритмически, приближаясь к стиху, как «чуден Днепр при тихой погоде»:
… «А та страна, обмытая темно-синим морем, накрытая темно-синим небом… Она одна осталась светлой полосой — по ту сторону кладбища.
О, Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за днем время, которое я был пьян тобою!»
Не «упиваться» языком Герцена, и в самом деле, невозможно: так он гибок, разнообразен, свободен, смел. Герцен писал о городе:
«Что-то тихое, кроткое в его чертах, осыпанных вишнями»,
или о своей встрече с природой:
«Вид полей меня обмыл».
Он писал:
«…Он посмотрел на меня с тем грозно-грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев».
Быть может, с точки зрения школьной грамматики это и «неправильно», но зато как поэтично и как выразительно! Он писал: «вдумать в дело заговор»; «всечь его в порядок», «словобоязнь», «междусловие», — и, разумеется, это не было «неумением», как полагали доктринеры от литературы или обыватели, привыкшие подходить к произведениям искусства с точки зрения житейского здравого смысла; нет, изобретенные Герценом слова, словосочетания, каламбуры, почти всегда служили передачей нового оттенка мысли, образа, чувства. Даже галлицизмы, которыми его обычно попрекали, не входили в ткань повествования как нечто инородное, чуждое, враждебное духу нашего языка: чуть ли не каждый иностранный оборот оплодотворял привычный русский новым, поражающим смыслом.
Герцен постоянно вел дневник и несколько раз в течение своей жизни принимался писать записки. У него всегда была потребность отдать себе отчет в пережитом, даже тогда, когда пережито было еще сравнительно немного, когда он был еще молод. В 1838 году Герцен написал «Записки одного молодого человека»; Белинский напечатал их в журнале. Читая их, мы встречаемся со многими персонажами, которые впоследствии стали героями «Былого и дум». Но главный герой — сам автор — еще не тот, что в «Былом и думах». Это еще «один молодой человек», а не Герцен, каким мы его помним и знаем. В 1838 году «духовная драма» Герцена, да и самая его деятельность была еще впереди, он еще не стал собой, еще не дорос до себя. И в голосе его еще слышались чужие ноты. Он сам отмечает, что на «Записках одного молодого человека» видны следы Гейне, которого в ту пору он усердно читал.
«На «Былом и думах» видны следы жизни, — прибавляет он, — и больше никаких следов не видать».
Какую доблестную жизнь нужно было прожить, чтобы, положенная на бумагу, она была полна такого захватывающего интереса, такого высокого поучительного смысла; какой художественной мощью и каким мужеством надо было обладать, чтобы так полно и откровенно положить ее на бумагу!
«Все это написано слезами, кровью, — говорил о «Былом и думах» Тургенев, — это горит и жжет… Так писать умел он один из русских».
«Герцен не уступит Пушкину, — сказал о нем Лев Толстой. — Где хотите откройте, везде превосходно».
Лидия Чуковская
Несуществующие реально герои вымышленных романных сюжетов откровенно раздражают Герцена: это восковые статуи, слепки, у которых все внешнее, вдобавок все выдуманное, внутри которых нет жизни, нет загадки. Записки, мемуары, по его мнению, напротив, запечатлевают реальную, живую «эксцентрическую жизнь», полную вопросов и тайн. Они объективно и непреходяще ценны: документальны, подлинны, в них воссоздано живое человеческое прошлое. По этой логике толстовское «Детство» действительно выше «Войны и мира».
Главное произведение Герцена-писателя «Былое и думы» (1852— 1867) относится именно к произведениям о жизни реального человека и о событиях подлинного прошлого, былого.
Особенности жанра этого грандиозного произведения объективно вытекают из особенностей творческой личности Герцена-синтетика, о которых говорилось выше. Художественное и документально-автобиографическое начала сложным образом сосуществуют в «Былом и думах». Так, начинаются они с событий войны 1812 г., в которых поневоле приняла в Москве участие семья И.А. Яковлева вместе с сыном Александром. Поскольку Герцен был тогда младенцем, сам об этих событиях помнить не мог и знал о своем в них участии только с чужих слов; он применяет чисто писательский прием: вводит в начале книги образ своей няни и обобщенно обрисовывает некий неоднократно возникавший в детстве между собой и ею разговор.
Далее начинается рассказ няни, посвященный тому, как семья Яковлева, спасаясь от бушевавшего в Москве пожара, вышла со слугами на Тверской бульвар и едва не стала жертвой пьяных французов-мародеров. Интересно, что Герцен довольно скоро в точно рассчитанном месте сменяет ее на стезе повествования и как бы начинает вспоминать далее сам Герцен, как заправский мемуарист, реально вспоминающим события и ситуации, о которых он ведет рассказ, описывает даже поношенный костюм отца, отсутствие на нем парика и тому подобные конкретные детали. Разумеется, в данном случае перед нами не проявление фантастической остроты его младенческой памяти, а чисто литературные приемы, работа художественного воображения писателя с опорой на полученные во взрослом возрасте знания о городской дворянской моде того времени. Это лишнее напоминание, что «Былое и думы» — не мемуары в обычном смысле, а нечто куда более сложное по жанру.
Далее Наполеон в тексте «Былого и дум», как это и было в исторической реальности, обращается к отцу с предложением отвезти от него письмо к Александру I, причем их разговор воссоздан в форме прямой речи, а не дан в пересказе — словно Герцен при нем присутствовал: еще один пример синтетического (одновременно и литературно-художественного в ряде черт, и очерково-документального в своей событийной основе) характера повествования.
Как писатель Герцен многократно проявляет в отношении реально существующих людей тот глубокий художественный психологизм, который плохо удавался ему в отношении вымышляемых героев. «Былое и думы» буквально поражают обилием ярчайших человеческих характеров. Митрополит Филарет, декабрист генерал М.Ф. Орлов, архитектор Витберг, Николай I, шеф жандармов Дубельт, Бакунин, Гарибальди, Маркс и многие другие исторические деятели появляются на страницах произведения. Нередко Герцен весьма субъективен — опять же вполне по-писательски он откровенно шаржирует малосимпатичных ему людей (в виде примера можно назвать такие разные фигуры, как Николай I и Карл Маркс). В других случаях он превращает реальных людей в интереснейшие литературные персонажи, а посвященные им страницы начинают выглядеть как вставляемые по ходу повествования блестящие сюжетные новеллы. Такова, например, история о похождениях князя Долгорукова, которого Герцен наблюдал в период своей высылки в Пермь (другое написание его фамилии, также применяемое в «Былом и думах»,— Долгорукий).
Незадолго до своей ранней смерти жена Герцена Наталья Александровна (урожденная Захарьина — она была двоюродной сестрой мужа) пережила малопонятное увлечение Г. Гервегом — ничтожным эгоистом, позером и трусом, разыгрывавшим из себя «революционера-демократа» и сочинявшим по-немецки посредственные стихи, не раз переводившиеся в СССР из-за их трескучей «революционности» (вскоре она в нем целиком разочаровалась, заявив в письме от 18 февраля 1852 г., что его «характер вероломный, низко еврейский»). Тогда же при кораблекрушении погибли мать Герцена и его сын Коля. В 1852 г. писатель стал записывать рассказ о своей только что происшедшей личной трагедии. (Эту изначальную часть «Былого и дум», которую при публикации называют обычно «Рассказом о семейной драме», сам Герцен не печатал потом до конца жизни.) Чувствуется, что интонации, ставшие затем определяющими для большинства разделов произведения в целом, еще не найдены здесь: «Рассказ о семейной драме» содержит много чисто риторических приемов, беллетристического сюжетного «инсценирования» эпизодов пережитого (с другой стороны, объективный самоанализ тут, в силу личного характера темы, психологически труден автору). Герцен всецело оправдывает свою Natalie, более того — духовно поднимает ее на недосягаемую высоту, скорбит и тоскует о ней. От истории «кружения сердца» ассоциации потянулись к юности, когда Александр и Наталья полюбили друг друга, к детству — так, вначале без четкого умопостигаемого плана, стало постепенно складываться будущее произведение эпических масштабов, которое создавалось потом полтора десятилетия.
«Былое и думы» — произведение художественно-мемуарного жанра. В «Предисловии» автор называет свою книгу исповедью. Герцен чистосердечно рассказывает о своей трудной жизни, о своих мыслях и чувствах, не утаивая и не приукрашивая ничего. Личность автора раскрывается широко и многогранно. Читая «Былое и думы», невольно вспоминаешь слова Белинского: «Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, возбуждает деятельность...» Герцен велик во всем: в мучительном искании смысла жизни и научной истины, в глубоком уважении к страдающему народу и святой ненависти к его врагам, в дружбе и любви.
Для таких людей, как Герцен, личное счастье неотделимо от счастья народа, а личная судьба — от судьбы отчизны. Поэтому "Былое и думы" выходят за рамки биографического рассказа. Говоря о себе, автор в то же время рассказывает и о жизни общества, об исторических событиях в России и в Западной Европе.
Герцену было что поведать своим современникам и потомкам. Он всегда оказывался на главной магистрали истории, в центре политической, научной, литературной и культурной жизни своего времени. Он был свидетелем кровавых событий в России в декабре 1825 года, на себе испытал всю тяжесть политического гнета 30-х годов, его лучшие годы прошли в ссылке, под строжайшим надзором полиции; в зрелом возрасте он стал политическим эмигрантом и принял самое активное участие в идейной борьбе, развернувшейся в Европе в середине XIX века, наблюдая революцию 1848 года во Франции. Все эти и многие другие исторические события описаны в «Былом и думах».
Недаром он предупреждал читателей, что «Былое и думы» не историческая монография, а «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Герцен не только излагает события, но и оценивает их. Многие оценки суровы и беспощадны. Ведь автор — борец, революционер. Ему ненавистны тупые, ограниченные люди, управляющие родной страной. Он с негодованием пишет о деятелях науки, литературы и культуры, которые забыли о долге гражданина и из корыстных целей служат реакции. В «Былом и думах» «при ненависти к деспотизму сквозь каждую строку видна любовь к народу» (Герцен).
О чем бы пи говорилось в «Былом и думах», все согрето живым чувством, все освещено глубокой мыслью, на всем остается отпечаток личности автора. «Все это написано слезами, кровью; это горит и жжет... Так писать умел он один из русских», — сказал Тургенев, прочитав первые главы книги Герцена. Прошлое в мемуарах оживает в бытовых сценах и картинах, в описаниях важнейших исторических событий, в портретных зарисовках выдающихся людей, с которыми встречался автор.
В первой части книги Герцен знакомит читателей с укладом жизни русского крепостнического дворянства первых десятилетий XIX века. То с оттенком легкого юмора, то явно сатирически описываются быт и нравы дворянских семей. Герцен был свидетелем многих трагических сцен.
Крепостной Толочанов выучился фельдшерскому искусству, овладел иностранными языками, но «веревка крепостного состояния» не давала ему покоя. Фельдшер предложил помещику изрядную сумму денег, чтобы приобрести отпускную, но получил решительный отказ. Тогда Толочанов "принял рюмку мышьяку"и умер в страшных мучениях. Герцен слышал "его стон и страдальческий голос, повторявший: «Жжет! Жжет! Огонь!"
Для Герцена-мемуариста характерно сочетание художественных и публицистических приемов письма. Он набрасывает портреты людей, мастерски вводит диалоги, а затем остроумно комментирует описываемые сцены, делает широкие обобщения. Так, рассказав о тиранстве помещиков, Герцен с горечью пишет, что «в передних и девичьих, в селах и полицейских застенках» совершаются страшные злодеяния. Помещики и чиновники сосут «кровь народа тысячами ртов».
В последующих частях «Былого и дум» круг наблюдений автора расширяется. Его внимание прежде всего привлекают декабристы, подавшие пример революционного героизма. Участников восстания 14 декабря 1825 года Герцен воспринимает как «богатырей, кованых из чистой стали с головы до ног».
Тепло, лирически взволнованно Герцен пишет о людях 20-х годов, идейно примыкавших к декабристам, например о Чаадаеве. «Серо-голубые глаза» Чаадаева "были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически". В своей улыбке автор «Философического письма» прятал глубокую грусть и презрение к порядкам, которые насаждали жандармы во главе с царем. Образ Чаадаева, гордого в своем одиночестве и одновременно печального, напоминает Герцену «молодых героев, самонадеянно шедших вперед...».
Герцен видел борьбу двух исторических сил — царизма и революционного движени. Поэтому в «Былом и думах» наряду с образами декабристов широко представлены образы чиновников самодержавной власти, начиная с рядового жандарма и кончая коронованным жандармом Николаем I. Чем выше чиновник поднимается по служебной лестнице, тем благообразнее его внешний вид, но тем чернее его душа. Невольно вспоминается Гоголь, одним из первых обративший внимание читателей на несоответствие внешней благопристойности, кажущейся порядочности чиновников их внутреннему, духовному складу. Чичиков, как никто другой, был щепетилен в одежде, в манере поведения и в то же время весьма неразборчив в средствах обогащения. В изображении чиновников Герцен идет путем, проложенным Гоголем. Дубельт, начальник канцелярии III (жандармского) отделения, "всегда учтив". Но при внимательном взгляде на лицо можно заметить "тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость". Шеф жандармов Бенкендорф "имел обманчиво добрый взгляд". Этот «человек ангельской доброты» тысячи невинных людей отправил в тюрьму и на каторгу.
Чиновников всех рангов Герцен рассматривает не только как своих личных врагов, преследующих его с тупой жестокостью, но и как врагов всего русского народа. Автор «Былого и дум» с гордостью пишет о том, что века самодержавно-крепостнического гнета не убили живую душу русского народа, его прогрессивную культуру и революционную мысль. Он рисует передовых представителей русской интеллигенции 40-х годов, преемников идей декабризма и зачинателей революционно-демократической мысли, первое место среди которых занимает образ «неистового Виссариона» — Белинского. Герцен считал Белинского выдающимся человеком, одним «из самых замечательных лиц николаевского периода»; он ценил и своем друге и единомышленнике глубокий ум, революционную убежденность, кристальную честность.
Значительное место в «Былом и думах» отведено Н. П. Огареву, поэту и революционеру, другу и соратнику Герцена. Не менее интересны страницы, посвященные историку Грановскому, художнику Ипатову, артисту Щепкину. Талантливость этих деятелей науки и искусства автор мемуаров рассматривает как отражение талантливости русского народа, который в невероятно трудных условиях создал выдающуюся культуру.
Значение Герцена как писателя в развитии русской общественной и художественной мысли очень велико. Он явился предшественником революционно-демократических писателей 60-х годов. Как и Пушкина, Герцена волновала судьба мыслящий дворянской интеллигенции, находящейся в конфликте с породившей ее средой; эта проблема поставлена в романе «Кто виноват?» и в мемуарах «Былое и думы». Герцен призывал читателей к активному вмешательству в жизнь, к борьбе с господствующими устоями помещичьей России. Революционная направленность его творчества оказывала положительное влияние на революционно-демократическую литературу 60-х годов, в частности на творчество Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского.
Вслед за Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Белинским автор «Былого и дум» способствовал обогащению и совершенствованию русского литературного языка. Поэтическая речь в произведениях Герцена, передающая тончайшие переживания человека, перемежается с языком науки, способным раскрыть и объяснить самые отвлеченные понятия. Белинский отмечал, что Герцен «как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица». Языком его восторгались великие писатели, превосходные стилисты и глубокие знатоки родной речи. По мнению Л. Толстого, по языку «Герцен не уступит Пушкину». Тургенев в письмах к нему неоднократно восторгался слогом: «легкостью, быстротой» его речи.