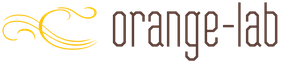Мустай карим помилование краткое содержание. Фольклорно-мифологическая основа повести М
Есть личности, которые навсегда оставляют добрый след в истории, творческое наследие которых неподвластно времени.
Для людей всех поколений Мустай Карим стал культурным символом, патриархом духовности, эпохой в литературе Башкирии.
В золотой фонд литературы вошли повести Мустая Карима “Долгое-долгое детство”, “Помилование” и другие произведения писателя. Мустай Карим ведёт дискуссию с жизнью, а точнее - жаркий спор с темными, неправедными ее сторонами.
«Помилование» - небольшое по объёму произведение - поистине монумент гуманизму. Война актуальна уже потому, что она была. С каждым днем становится все труднее сказать свое, неповторимое слово о войне, о которой созданы великие произведения. Но настоящий художник потому и настоящий, что видит мир по-своему. В «Помиловании» мы постоянно чувствуем присутствие автора. Он страдает, сомневается, радуется вместе с нами, читателями.
Обратившись к повести М. Карима «Помилование», мы заинтересовались вопросом, благодаря чему в ней ощущается лирическое начало и то, что башкиры называют непереводимым словом “мон”, - это и душевность, и напевность, что создает особую красоту языка произведения, приближает переживания героев к сердцу читателя.
Цель нашей работы - исследовать роль фольклорно - мифологической основы в художественной структуре произведения для решения идейного замысла повести.
Исходя из данной цели, мы ставим перед собой следующие задачи:
Определить идейный замысел повести.
2. Провести сопоставительный анализ повести М. Карима «Помилование» с творчеством С.А. Есенина. Выявить назначение фольклорных элементов.
Раскрыть связь фольклора и мифологии с идейным содержанием произведения.
Объект исследования: текст повести с фольклорно - мифологической точки зрения.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
аналитический;
сопоставительный;
сравнительный.
В исследовательском проекте мы опирались на работу М. Ломуновой «Мустай Карим». По мнению литературоведа, неповторимая образность произведения создается с помощью фольклорных и мифологических образов, которые связывают прошлое и настоящее. Поэтому повесть приобретает особый философский смысл.
Глава 1. Новое осмысление темы войны в повести М. Карима «Помилование»
1.1 Проблематика повести
«Меня - как и всякого человека, - говорил Мустай Карим, - беспокоит опасность войны. Я не раз думал об Архимеде, которого убил солдат. Философия солдата однозначна. Ведь у него, наверное, и угрызений совести не было. Он - оружие, орудие. Заданная сила часто сильнее добра. Архимеда убивать нельзя. Это опасно для жизни человечества. Я не хочу, чтобы люди потеряли веру в будущее, чтобы вошли в их души безысходность, безразличие. Литература призвана оберегать человека от этих опасностей. Архимед не должен быть убит».
Этим чувством и вызвана к жизни повесть Мустая Карима «Помилование».
Критика сразу же отметила новое слово о войне, сказанное автором повести. Не героическое в центре внимания автора, война, как таковая, вроде бы и не показана в повести. Но горькое, страшное событие рождено ею и только ею. Она не считается с чувствами людей, даже самыми чистыми, самыми возвышенными. У неё нет права на милосердие. Это - непреложный факт. Это - грозная реальность. И это - страшно: сердце готово оправдать, а разум велит карать.
Замысел этой повести преследовал писателя долгие годы. Вначале это был даже не замысел, а факт. Факт фронтовой жизни, накрепко врезавшийся в память.
Подобный случай действительно произошёл в части, где служил писатель. Расстрелять парня, который по-человечески и не был дезертиром - сам вернулся в часть - приказано было взводу, которым командовал Мустай Карим. И были… бессонная ночь, мучительные раздумья … Комиссар понял молодого поэта, приказ был отдан другому взводу, но разве могло забыться всё, что связано с этим событием?
Сам сюжет в повести претерпел изменение. Солдат Любомир Зух, нарушив воинскую дисциплину, едет ночью на бронетранспортёре в соседнюю деревушку, чтобы проститься с любимой девушкой, Марией-Терезой.
Но писателя привлекает не столько сам факт, сколько вопрос: кто виновен? Кто виновен в смерти Зуха? Любомир Зух не дезертир. Скорее - просто беспечен. Любовь толкнула его на этот шаг. Безоглядная, всепоглощающая. Она и вступает в конфликт с установлением военного времени.
Многие знакомые и незнакомые с Зухом понимают - сердцем - несоответствие наказания поступку. Здесь уже совесть голос подаёт: ведь совершиться должно страшное, непоправимое. О жизни речь …
Но приговор не справедлив лишь по человеческим законам. А разве могут быть иные? Да. И это - законы войны. Особые. По ним Любомир Зух - преступник.
Вся повесть - дискуссия с жизнью. Спор. «И большой, - говорил М. Карим. - Есть необходимость и закон, и незыблемое право человека на жизнь и счастье, на любовь. Но все эти права вступают в противоречие в повести с суровой реальностью войны». Эта мысль и вела пером писателя.
В центе «Помилования» - не Любомир Зух, не его переживания, но тот, кому поручено командовать расстрелом. А это - Янтимер Байназаров, двадцатилетний лейтенант из Башкирии. Мустай Карим признавался, что ему дорог Янтимер. Это - его герой. Человек сложной духовной жизни. Ему нелегко живётся. Всё пропускает через сердце.
Настроение, созданное писателем, таково, что тревога, напряжение, растут с каждой страницей.
… Ночь перед расстрелом. Ею и начинается повесть. Начинается с душевных терзаний Янтимера Байназарова, чей взвод на рассвете расстреляет Любомира Зуха. Своего расстреляют. Янтимер ещё не сделал и единого выстрела по врагу, и первый приказ его открыть огонь будет дан по своему же парню.
Война свой счёт ведёт всему. Время для неё в этот счёт не входит. Там иная жизнь, иной мир.
Янтимер до последнего своего часа не сможет забыть и ночь ту, и рассвет, как не смогут забыть ни капитан Казарин, ни комиссар Зубков, ни Ефимий Лукич.
Да, эта ночь тяжка для многих, особенно же для капитана Казарина. Ему совесть не даёт покоя. Вот он, высший суд для каждого… Если Янтимер мучается несправедливостью приговора - по высоким человеческим понятиям, Казарина терзают угрызения совести. Он собой занят. Можно ли его упрекнуть в смерти Зуха, в том, что он преступил дозволенное? По законам войны - ни в коей мере. Но что-то мешает нам полностью согласиться с этим. Казарин в роковые для Зуха минуты не захотел войти в его положение. Волю настроению дал. Да и позднее Казарин мог не давать ход делу, и опять-таки не сделал этого. Дважды имел возможность уберечь Любомира от страшной смерти - пули от своих. Будет мучиться страшным исходом и Ефимий Лукич Бурёнкин, чей сарай развалила ненароком машина Любомира Зуха, - подавший Казарину жалобу на водителя, заваривший всё это дело. И в голову ему не приходит, что ныне по другим законам жизнь идёт - законам войны. А страшный закон войны - расстрел.
Любомир не преступник, конечно. Не предатель. Наш парень. Мечтает до Берлина дойти, а теперь уже, полюбив Марию-Терезу, и Мадрид от фашистов освободить. В части - общий любимец. Оттого ещё больней.
Нельзя не обратить внимание на такой удивительный факт: ужаса, случившегося с ним, Любомир Зух так и не осознал, по сути, до самого расстрела. Даже в ночь перед исполнением приговора он спокойно спит на гауптвахте, чем немало потрясены караульные. За жизнь парящего в небесах Зуха переживают все окружающие. Клянёт себя за скоропалительную жалобу Бурёнкин, раскаивается в принятии должностного решения капитан Казарин, мучается, не спит полковой комиссар Зубков, ругается от бессилия что-либо изменить старшина Хомичук, в невыносимой тревоге и неизвестности страдает Мария-Тереза.
Образ Марии несколько абстрактен, условен. Она словно растворяется, уходит в незнаемое к концу повести. Читатель не встретится с ней больше после той страшной сцены на безмолвной поляне, у свежей могилы расстрелянного Зуха. Мария уходит в незнаемое, чтобы вернуться к людям в любую пору, ибо вечна, жива Любовь.
Повесть «Помилование», несмотря на лаконизм, весьма непроста по конструкции и неоднозначна, несмотря на свою органичность, по стилистике.
1.2 Жанровое своеобразие повести
Если задуматься о её жанровой принадлежности, то первое, что приходит на ум: повесть романтическая, либо лирическая. И действительно, признаки этого жанра налицо: восторженная поэтическая интонация описания пробуждающегося чувства Любомира и Марии-Терезы, порою сказовый слог, былинные повторы. Романтично происхождение самой героини. Романтично и описание зарождающейся в сердце Марии-Терезы тревоги за судьбу Любомира, после того как её посещают майор и лейтенант, ведущие следствие по делу Зуха.
Однако мы помним по классическим произведениям, романтические истории обычно производят впечатление, чуть ли не сказки. Отчего же тогда нас не покидает ощущение реальности, чуть ли не ужаса происходящего? Оттого, что автор этой истории обладает горячим сердцем, он бесконечно любит своих героев, вкладывает в поступок каждого из них собственную боль. Он действительно смотрит на них «чутким оком души».
Страдают герои - переживает и читатель. Но какими средствами добивается писатель необходимого чувства сопереживания? Автор умеет так повести рассказ, чтобы персонажи ожили, зажили собственной жизнью. Военные люди - кажется, все в одной форме, а каждый со своей судьбой, биографией, резко очерченной индивидуальностью: страдающий печенью и обиженный на весь слабый пол из-за того, что его бросила жена, вместе с тем справедливый и всё понимающий капитан Казарин; единственный, кто решился обжаловать приговор трибунала, воплощение воинской чести комиссар Зубков; виртуоз по части ругательств старшина Хомичук; наивный сын степей часовой Калтай Дусенбаев; «знаток истории Древнего Рима» и толкователь вещих снов лейтенант Леонид Ласточкин.
Трагично выглядят обстоятельства, несовершенство человеческого жизнеустройства, в котором любовь становится причиной гибели и страданий влюблённых, «жертвой войны»: «Конечно, если не брать в расчёт любовь, - поразительное головотяпство. А кому какое дело до твоей любви? Ни свидетелем защиты её не позовут. Ни заступницей она быть не может. Саму судят». Это, «если не брать в расчёт любовь»? А если брать? В нормальных обстоятельствах ведь мы не берём её в расчёт. Но война - это и есть, то ненормальное состояние человеческого общества, при котором и любовь, и милосердие, и право на ошибку, и прощение часто в расчёт не берутся. Повесть Мустая Карима «Помилование» - как раз о таком случае. Главная её идея - протест против античеловеческой сущности войны. И ещё призыв помнить как о её героях, так и о невинных жертвах.
Мне кажется, что история Любомира Зуха и Марии-Терезы для других - как героев повести, так и её читателей - нечто вроде особой книги: смотрите, и такое бывает. Или - вот что может получиться, если отвлечься от реальной жизни, забыть о них, жить только любовью… Комиссар Зубков, отвечая капитану Казарину на его просьбу спасти Зуха, говорит: «Такое только в книгах может случиться. Если бы книга закончилась чудом, о котором вы просите, читатель вздохнул бы с облегчением. Книга, если в ней нет чуда, - мёртвая книга».
В повести «Помилование» чуда не случилось. Вернее, оно случилось, но на тернистом, долгом пути к людям утратило свою спасательную волшебную силу. Решение о помиловании Любомира Зуха было принято наверху, но опоздало на несколько часов. Как это часто бывает в жизни, добро торжествует не для тех, кто в нём больше всего нуждается.
Через многие годы после войны механик - водитель Любомир Зух был оправдан писателем Мустаем Каримом.
Проанализировав проблемное и жанровое содержание повести, мы пришли к выводу, что самые поэтические страницы посвящены чувствам, чистым и возвышенным, которые не может уничтожить война.
Глава 2. Роль фольклорно-мифологических образов в повести (исследовательская часть)
Наш проект ставит следующие исследовательские задачи:
Рассмотреть традиционность обращения русских писателей - классиков к произведениям устного народного творчества.
Отобрать материал для сопоставления из повести М. Карима «Помилование» и лирики С.А. Есенина.
Найти параллели в использовании фольклорно - мифологических образов.
Соотнести фольклорные и мифологические образы с системой персонажей.
2.1 Из истории вопроса
Устное народное творчество - это неиссякаемый источник, из которого из века в век наша культура черпает сокровища народной поэзии, мудрость, эстетического совершенство. Его можно представить как исторические корни и истоки русской литературы.
Обращение того или иного писателя к фольклору - явление довольно частое. Само по себе оно еще ни о чем не говорит. Здесь важно, чем вызван этот интерес, чем он продиктован. Ведь фольклор, в частности русский, включает в себя немало противоречивых элементов. В нем весьма ощутима материалистическая трактовка жизненных явлений и в то же время видны следы идеалистического восприятия мира; здесь и трезвое, деловое отношение к жизни и разного рода религиозно-мистические взгляды; реальные мечты о лучшей доле народной переплетаются с явно фантастическими представлениями о счастье. Отсюда - возможность различного использования фольклора.
К устному народному творчеству, мифологии обращались многие писатели и поэты 19 века.
Пушкин входит в жизнь каждого человека с самых ранних лет - входит своим таинственным Лукоморьем со всеми его сказочными героями и будто златой цепью связывает каждого из нас с нашей тысячелетней историей, с нашими древними мифами, сказками, верованиями - со всеми нашими древними славянскими корнями, со всей русской христианской цивилизацией, непревзойденным выразителем и вершиной которой был и остается он сам.
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...
Сказочное Лукоморье, могучий дуб с котом-баюном - это не только Пушкин. Это весь мир устной поэзии русского народа, впитанный им с детства от Арины Родионовны Яковлевой (1758 - 1828) - «мамушки моей», как называл ее Александр Сергеевич, «простой» русской крестьянки, владевшей даром сказительницы и песенницы и оказавшей главнейшее влияние на формирование Пушкина как русского национального поэта.
Интерес Пушкина к устной народной поэзии был так глубок и всеобъемлющ, что он в своем творчестве охватил все жанры русского фольклора: сказки и песни, пословицы и поговорки, предания и легенды, раешные стихи и лубки.
Прямым продолжением поисков в области русской народности стала работа над поэмой «Руслан и Людмила», которая завершает первую эпоху
творчества Пушкина. В поэме Пушкина многое, так или иначе, соотносилось с русской историей, а образы поэмы - это первая попытка выразить русские национальные характеры.
Душой русского народа является песня. Песня широко включается в произведения писателей.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова ориентирована на народную историческую песню и былину. Из литературного произведения мы узнаем много нового о бытовых традициях наших предков. Песня рассказывает читателю об иерархии внутрисемейных отношений. Сопоставляя современность и историческое прошлое, автор выражает идею нравственного превосходства прошлого над настоящим в его целостности и единстве.
Герои рассказов И.С. Тургенева являются носителями народной стихии. Касьян, Калиныч слиты с природой. Они могут владеть, как герои сказочного фольклора, разными чудесными умениями, знают лечебные травы, различные приметы, могут заговаривать кровь.
Как в фольклорной поэтике, Касьян сливается с природой: срывает какие - то травки, сует их за пазуху, бормочет что-то себе под нос, перекликается с птичками.
Мир мечтаний Касьяна расцвечен фольклорными образами. «... и идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках... »
Герой подхватывает песенку жаворонка. Он сам поет сочиненную им песенку: « А зовут меня Касьяном, а по прозвищу блоха». Здесь же в народно - поэтическом ключе дает Тургенев и прозвище крестьянам. Касьян знает лечебные травы: «Есть травы, цветы помогают тоже», - говорит он рассказчику. Он верит в спасительную молитву.
В поэтическом освещении, глубоко народных традициях рисуется Тургеневым и образ крестьянина Калиныча (рассказ «Хорь и Калиныч»). Калиныч ближе стоит к природе. Народный герой Тургенева - продолжение природных стихий. Он вошел в избу Хоря с пучком полевой земляники в руках, пел довольно приятно и подыгрывал на балалайке, знал народные приметы:
когда пойдет дождь - «утки вот плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мог заговаривать кровь и выгонять червей. Тургенев подчеркивал особую просветленность облика Калиныча как носителя нравственных и эстетических начал Народной жизни: «лицо Калиныча было кроткое, ясное, как вечернее небо... Сам же он все глядел и глядел на зарю».
Мир мечтаний героя Тургенева (Касьяна) расцвечен фольклорными образами. Мечта героя приобретает поэтизированный характер, раскрывает его поэтический мир, расцвеченный этнографически - фольклорными образами.
«…”за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолья-то
благо дать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых
Рассказ Касьяна носит черты сказа. Тургеневский герой мечтатель, его образ овеян романтическим ореолом.
Пословицы и поговорки является необходимым художественным элементом языка литературных произведений. Они используются писателем для характеристики героев, выражают отношение автора к событиям, подчеркивают развитие действия, способствуют созданию национального колорита.
Фольклор - корни и истоки русской литературы, тот неиссякаемый источник, из которого из века в век наша культура черпает сокровища народной поэзии, мудрости, эстетического совершенства. Сливаясь с литературой, насыщая ее фольклорными жанрами, народнопоэтическими образами, фольклор является выражением народной национальной традиции, духа народа, его нравственно-эстетических ценностей.
Кроме фольклора еще и мифы легли в основу современной культуры. Без хорошего знания мифов остаются непонятными многие известные произведения литературы, живописи, скульптуры. Мифы существуют в детских поговорках, в наших обычаях и праздниках, они перешли в народные сказки и в произведения русской литературы.
Веками копили мифы и фольклорные образы опыт народов, их представления о добре и зле, о достойном и недостойном поведении. Когда-то, передаваясь из поколения в поколение, они учили людей тому, как следует жить. Эти представления - часть духовных сокровищ, накопленных человечеством, знакомство с которыми обогащает каждого, кто с ними соприкасает.
К фольклору и мифологии обращались многие писатели и поэты 19 - 20 века. Мустай Карим продолжает традиции русской классической литературы.
2.2 Место фольклорно-мифологических образов в творчестве М. Карима и С. Есенина
Для сопоставления мы выбрали творчество «певца русской природы» Сергея Есенина - самого «мирного» поэта 20 века, - и писателя - романтика 20 века Мустая Карима, разрабатывающего военную тематику.
Предметом сравнения будут фольклорные образы С. Есенина, певца русской природы, и фольклорные образы М. Карима, башкирского писателя. Исследовав содержание выбранных произведений, мы обнаружили, что образы деревьев присутствуют как у С. Есенина, так и у М. Карима.
Древний человек почти не знал неодушевлённых предметов, всюду находил он разум, и чувство, и волю. Одушевление образов наблюдается как у Есенина, так и у М. Карима.
Образ берёзы.
У Есенина - создателя единственного в своём роде «древесного романа», лирический герой которого клён, а героини - берёзы, - очеловеченные образы деревьев обрастают портретными «подробностями»: у берёзы - «стан», «бёдра», «груди», «ножка», «причёска». Берёза, во многом благодаря Есенину, «стала национальным поэтическим символом России» (М. Эпштейн). В древних языческих обрядах берёза служила символом весны. «Страна берёзового ситца» - ещё и «страна» детства, пора самого прекрасного.
…И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком.
В башкирской мифологии береза - символизирует “ось мира”, жизнь, смерть, весну, любовь, семью, мягкосердечие, чистоту, грусть, плач. В повести «Помилование» образ березы встречается 4 раза.
Например, когда герой задумывается, когда стоит перед выбором, он все время прислоняется к березе, как будто ищет у дерева жизненные силы, чтобы найти ответ на трудные вопросы. «Байназаров вышел из шалаша, сел, прислонившись спиной к березе».
Образ яблони.
У С. Есенина
"Не жалею; не зову, не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым… «Яблонь дым» - цветение деревьев весной, когда всё вокруг возрождается к новой жизни. «Яблоня», «яблоки» - в народной поэзии это символ молодости, - «молодильные яблоки», а «дым» - символ зыбкости, мимолётности, призрачности.
У М. Карима
Образ яблока и яблони в «Помиловании» не случайно появляется в момент знакомства Любомира Зуха и Марии-Терезы, ведь яблоко и яблоня - символ Вечности, цельности, жизни, вечной юности, весны, любви, преходящей радости, единства.
«В сожженном дотла саду с единственной, чудом выскочившей из огня яблоньки семнадцать дней назад с мягким стуком не упало яблоко, и если бы это яблоко не подняла семнадцатилетняя девушка. Ударилось яблоко в грудь Зуха, скатилось и легло неподалеку. Он ничуть не удивился, лежа все также навзничь, нащупал яблоко и с хрустом откусил от него».
Образы светил.
У Есенина из светил на первом месте образ луны - месяца, который встречается примерно в каждом третьем его произведении (в 41 из 127 - очень высокий коэффициент). При этом до 1920 года преобладает и месяц (18 из 20), а в позднем - луна(16 из 21). Исследовав содержание \повести «Помилование», мы обнаружили, что образ луны, месяца, листьев автор использует 9 раз.
В есенинских стихотворениях последовательно развёртывается метафора «месяц-колоб». Этот образ выражает наивное восприятие мира, свойственное в равной мере и первобытному, и детскому взгляду на мир.
В месяце подчёркивается, прежде всего, внешняя форма, фигура, силуэт, удобный для всякого рода ассоциаций - «ягнёнок», «рог», «колоб», «лодка». Луна - это, прежде всего, свет и вызванное им настроение - «отсвет лунный, синий», луна хохотала, как клоун, и «неуютная жидкая лунность. Месяц ближе к фольклору, это сказочный персонаж.
По нашему мнению, употребление образов луны, лунного света в повести М. Карима «Помилование» указывает на связь с башкирской мифологией. Как многие другие народы, древние предки башкир обожествляли Небо и с почитанием относились к его светилам: Солнцу, Луне, некоторым звездам. Отголоски этих воззрений находят отражение в народном творчестве, обрядах. Вера в волшебную силу Луны, в ее мощь запечатлена в обрядах. При каждом новолунии обращались к Месяцу со словами мольбы и благополучии, а в случае смерти в этом месяце просили, чтобы было божье благословение. В основе этих обрядов лежит мотив почитания Луны. По-видимому, далекие предки башкир Луну считали добрым божеством. Месяц выступает как живое существо, избавляющее человека от тягости жизни. В первобытной мифологии народов всего мира солнце и луна непременно одарены жизнью и выступают как человеческие существа. Однако в мифах они различаются относительно пола. Так, по данным Э. Тэйлора, у племени мбокоби в Южной Америке луна выступает в роли жены, а солнце, наоборот, как её мужа. В Башкирском фольклоре солнце, как правило, является образом женским, луна же может выступать как в образе женского, так и мужского начала.
Наши наблюдения над текстом повести, где встречаются образы луны - месяца, мы оформили в виде следующей таблицы:
| Природа | Человек |
| «Лунный свет - сердце теснит. С шорохом падают сухие листья. Иной удариться о землю и прозвенит тягуче. Луна полная и тоже с этой ночью в осыпь пошла». | « А память своим занята - она потери перебирает крупные и мелкие». (На сердце у Янтимера тоска и тревога) |
| «Лунный свет осторожно, на цыпочках вошел через лаз внутрь шалаша». | «Янтимер вскочил и сел». (Лунный свет заставляет тревожиться вызывает, воспоминания в памяти). |
| «Лунный свет загустел, падающие листья он не отпускает сразу, а будто держит на весу, и листья теперь опускаются медленней, плавней. И только упав на землю, перешепчутся о чем-то». | «Но теперь, в тягостную эту ночь, толкнулось в памяти то унижение, та потеря». (В памяти Янтимера четко, всплыла картина унижения). |
| «Зародился месяц». | « И в эту самую благоразумную пору неразумные Любомир Зух и Мария Тереза Бережная полюбили друг друга». |
| «Не слыша дождя, не видя лунного сияния». | « Спит бравый сержант - непутевый Любомир Зух. Сладок его сон. И он улыбается во сне». (Природа замирает и замирает жизнь человека) |
|
«Вдруг невесть откуда забредшее облако подкралось к луне и ткунолось в серебряный бок. Луна даже сплющилась чуть, но не поддалась, оттолкнула назойливое облако и поплыла дальше. Облако пустилось в дагонку». |
« Тупая боль отдается меж ключиц. Словно почуяв что - то, Янтимер вскинул голову». (В небе схватка и в душе у Янтимера Байназарова тоже схватка). |
| «Те же слова, та же луна, шорох листопада». | «…уткнуть бы голову в какой - нибудь угол, спрятать душу. Терпение лейтенанта Янтимера Байназарова дошло до предела». |
Между образами луны, листьев, месяца и жизнью человека можно провести параллель: зародившийся месяц символ зародившейся любви, облако - знак приближающейся беды, перед расстрелом падают листья, но это не просто листопад - это листопад беды.
Образ птицы.
В народной сказке важное место занимает образ птицы, связанный понятиями о сотворении мира и его конца. Петух же в древних поверьях многих народов - символ солнца и светил. В повести М. Карима встречается образ лебедя только один раз.
«Лебедыш ты мой, ах, лебедыш, не дрожи, не дрожи... не бойся, - зашептала Анна.
Вдруг ревность уколола Янтимера. Лебедыш, это кто? Наверное, птенец лебедя. Кого она еще так называла, кого ласкала? На этой же кровати, под этим же одеялом?! И зря так подумал. Вчера, когда шли по улице, слово это пришло Анне на ум впервые. Нет, не оттого, что Янтимер напомнил ей птенца, который только-только учится летать, пробует встать на крыло. Так она подумать не могла, не в ее разуменье было бы. Такое белое, чистое, мягкое - лебедыш... Само с языка слетело».
В мифологии лебедь - символ красоты, совершенства, чистоты, достоинства, благородства, верности. С.А. Есенин, по нашему мнению, ориентировался на это понимание, когда писал:
Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поёт иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.
Итак, фольклорно - мифологическая основа творчества С.А. Есенина направлена на изображение пленительной красоты природы России, которую Есенин воспевал с глубокой и трепетной любовью, словно живое существо.
Фольклорно - мифологическая основа М. Карима противостоит смерти, а любовь Любомира Зуха и Марии -Терезы обретает вечность.
Глава 3. Фольклорно-мифологических образы М. Карима и традиционные народно-поэтические образы
3.1 Образ коня.
Образ коня, «главного тотема башкирского народа» выполняют различные функции, находя удивительные воплощение в поэзии М. Карима. десятки разнообразных ассоциативных линий начинаются именно с него.
Конь - это образ святости, благородства для башкирского народа. В повести «Помилование» образ коня встречается несколько раз. О коне говорит Мардан Гарданов:
«Если всех лошадей, какие через мои руки прошли, вместе собрать, полную дивизию в седло посадить можно, - похвастался он, - и еще коней останется. А если всю водку слить, какую я выпил!... Впрочем, чего ее сливать, кому она нужна, выпитая водка? А вот лошадь… да-а, лошадь… Ты мне любого черта дай... моргнуть не успеешь, а черт уже, что ангел небесный, по струнке идет! Только один с хребта скинул и копытом нос мне своротил, - он пощупал свой нос. - Рыжий был жеребец. Рыжая масть упрямая бывает. Дурная А саврасая или буланая - послушная, терпеливая; вороная масть - сплошь скрытная и хитрая. А вот белая - чуткая и чувствительная, особенно кобылицы».
И Я. Байназаров тоже думает о лошадях: «Янтимера еще в детстве лошадиный бес пощекотал, и рассказ Гарданова он слушал так, что сердце замирало».
Образ коня говорит о национальной принадлежности героев, об их связи с прошлым башкирского народа.
Итак, фольклорно - мифологическая основа творчества С.А. Есенина направлена на изображение пленительной красоты природы России, которую Есенин воспевал с глубокой и трепетной любовью, словно живое существо.
Фольклорно - мифологическая основа М. Карима противостоит смерти, а любовь Любомира Зуха и Марии -Терезы обретает вечность.
3.2 Сказочные образы в повести М. Карима «Помилование»
В повести нами обнаружены сказочные фрагменты.
| “А Лене снится сон, знатный такой сон, упоительный. Вот только конец нехороший... Будто он, в красной косоворотке, в черных хромовых сапогах со шпорами, стоит посреди какой-то поляны, а сам почему-то без порток. Однако это его ни капли не волнует.д.линная, до колен рубашка от сраму спасает. Вдруг перед Леней садится стая птиц. Сказать бы - голуби, да вроде покрупнее, сказать бы - гуси, да, кажись, помельче. Вытянув длинные шеи, плавно покачивая головами, чуть распахнув крылья, птицы пошли танцем вокруг Ласточкина. И так, танцуя, они стали превращаться в красивых, стройных девушек. Каждая старается, чтобы парень на нее взглянул, к себе зовет. Манят, крыльями-руками машут, но его не касаются. А Леня стоит в изумлении, не знает, какую выбрать, вконец растерялся. Значит, любят его, мил он им, пригож. Желанен! Радость, безмерная, безграничная, охватывает его”... | Превращение из птицы в девушку тесно связаны с мифологическими воззрениями, в частности, с древнейшими тотемистическими представлениями. По словам академика В.Н. Жирмунского, в таких сказаниях мы имеем тотемистические основы фольклорного сюжета: дева-птица выступает как праматерь рода. |
| “Анна, кажется ему, не шагает рядом, а катиться, словно клубочек, будто он, Янтимер, как падчерица из сказки, пустил его перед собой и бежит следом”. | Во многих сказках волшебным помощником для героя является путеводный клубочек. |
3.3 Магические числа
В мифопоэтических представлениях древних существовали так называемые сакральные числа, игравшие важнейшую роль в культовых обрядах, в фольклоре и древнерусских текстах. У каждого числа было несколько значений. В тексте «Помилования» нам встретилось множество чисел. Наши наблюдения мы оформили в следующей таблице:
| “через два дня и вовсе крылья опустились у Любомира Зуха” “из четырех кур было только две” | (небесное Число «2» символизировало двойственные начала всего сущего небесное - земное, правое - левое, добро - зло и т.п.) |
|
“Все трое: Прокопий Прокопьевич, Янтимер, Заславский встали на ноги”, “У Янтимера есть три маленьких брата” “Сложили крохи из трех вещмешков и с грехом пополам протянули три дня’, |
Число «3» воплощало образ динамической (изменяющейся, подвижной) целостности, полного совершенства, превосходства. |
| « одной и два имен сразу” “единственная коза” | Число «1» было символом единства целостности |
| “двенадцать лет своей жизни там прожила Мария - Тереза; “в 12 ч.10 мин. началось заседание суда” | Число «12» считалось счастливым и встречалось чаще всего в новогодней обрядности (двенадцать месяцев, знаков зодиака) |
|
“я седьмой” “неделю Любомир жил - то в небо взмывал, то падал в бездну”. |
Из суммы «3 +4» (соединение динамической и статистической целостностей) образуется число «7», считавшееся преимущественно человеческим, а также воплощавшее идею земной полноты, гармонии (семь цветов радуги, семь нот в музыке, семь дней в недели и т.п.). |
На наш взгляд, магия числа имеет определенное значение в судьбах героев. Двенадцать лет прожила Мария - Тереза в родительском доме, а число двенадцать считается счастливым. В двенадцать часов началось заседание, на котором решалась судьба Любомира Зуха, а цифра 12 считается судьбоносной. То же самое можно сказать о цифрах 3, 1,7.
Магические числа определяют жизнь героев. Когда герои счастливы, используются числа 1,3,7. Когда что-то случается в жизни персонажей обязательно вмешивается цифра 2.
Для М. Карима, любовь - чудо, сказка, божественный дар.
Самые поэтические, самые красивые страницы в повести посвящены чувствам людей, самым чистым возвышенным, которые не может убить война, чему способствовали фольклорные и мифологические образы.
В «Помиловании мы постоянно чувствуем присутствие автора. Он страдает, сомневается, радуется вместе с нами, читателями. В этой повести ощутимо лирическое начало, что и создает особую красоту языку произведения, приближают переживания героев к сердцу читателя.
Заключение.
Изучив специальную литературу по теме, проведя собственное исследование, мы пришли к следующим выводам
В повести самые поэтические страницы посвящены чувствам, чистым и возвышенным, которые не может уничтожить война.
Мустай Карим продолжает традиции русской классической литературы. К фольклору и мифологии обращались многие писатели и поэты 19 - 20 вена
Веками копили мифы и фольклорные образы опыт народов, их представления о добре и зле, о достойном и недостойном поведении. Когда-то, передаваясь из поколения в поколение, они учили людей тому, как следует жить. Эти представления - часть духовных сокровищ, накопленных человечеством, знакомство с которыми обогащает каждого, кто с ними соприкасается.
В повести сильна романтическая струя, несмотря на жесткость самой ситуации. Для М. Карима, любовь - чудо, сказка, божественный дар.
Романтическое начало в художественное полотно повести вносят сказочные фрагменты. Мустай Карим использовал в своем произведении фольклорно-мифологические образы природы, магические числа, пословицы.
Все эти элементы ярче выявляют недозволенность происходящего. Недозволенность - не в пределах конкретного события, но в глобальном смысле - войны, что рушит миллионы судеб.
В основе повести лежит характерный для фольклора прием противопоставления (антитеза) Эту несовместимость войны и естества людского подчеркнет у Мустая Карима и природа
Ещё ярче роль фольклорных и мифологических образов в осуществлении замысла автора повести подчёркивается в ходе сопоставления его творчества с творчеством С.А. Есенина
Фольклорно - мифологическая основа творчества С.А. Есенина направлена на изображение пленительной красоты природы России, которую Есенин воспевал с глубокой и трепетной любовью, словно живое существо.
Фольклорно - мифологическая основа М. Карима противостоит смерти, а любовь Любомира Зуха и Марии-терезы обретает вечность.
Фольклор и мифология органически входят в повествование повести «Помилование» Мустая Карима и являются выражением народной национальной традиции, духа народа, его нравственно-эстетических ценностей.
Список использованной литературы
1. «Башкирское народное творчество» (том 2) предания и легенды - Уфа «Башкирское книжное издательство», 1987
2. «Деревенские адвокаты» М. Карим - издательство «Современник», 1989
3. «Малые жанры русского фольклора» - Москва «Высшая школа», 1979
4. «Мифологическая символика слов и образов» А. Рогалев - Москва «Литература в школе №8», 2002
5. «Мустай Карим» - Уфа «Китап», 2000
6. «Мустай Карим» М. Ломунова - Москва «Художественная литература», 1988
7. «Помилование» М. Карим - Москва «Современник», 1987
8. «Русское народное мифологическое творчество» - Москва «Просвещение», 1971
9. « Словарь символов» В. Копалинский - ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002
10. «Неиссякаемый источник» А.Л. Фокеев - издательство «Лицей», 2005.
Мустай Карим
"Помилование"
Перевод с башкирского Ильгиза Каримова
+++
И что за мысль, ну об этом ли думать... В такой страшный час привязалась - страшнее часа ожидания смерти. И мысль-то не мысль, воспоминание одно. Там, над шалашом, лунная ночь - сердце теснит. С шорохом падают сухие листья - листья двадцатой осени Янтимера. Иной ударится о землю и прозвенит тягуче. Это, наверное, осиновый лист. Березовый так не прозвенит, он помягче. Или вместе с листьями, звеня, осыпается лунный свет? Луна полная, и тоже с этой ночи в осыпь пошла. А полная луна с детства вгоняла Янтимера в тоску и тревогу. Сейчас тоже. Впереди бесконечная ясная ночь. Будь она темная, с дождем и ветром, может, прошла бы легче и быстрей, а тут - замерла, словно тихое озеро, не течет и не всплеснет даже.
А память своим занята - она потери перебирает, крупные и мелкие. Отчего же не находки, не обретения, а утраты? На это Янтимер и сам бы ответить не смог. И правда, почему? Какие у него, у двадцатилетнего лейтенанта Янтимера Байна-зарова, потери, чтобы перед тем, как на рассвете совершить страшное дело, исполнить беспощадный долг, вот так перебирать их? Видно, есть. Время до войны в этот счет не входит. Там - другая жизнь, другой мир. Даже иная тогдашняя потеря теперь кажется находкой.
И странно - этот счет начался с ложки.
Первая напасть, случившаяся с ним на воинской стезе,- он ложку потерял. Широкая оловянная ложка, которую мать сунула ему в мешок, первой же ночью, как сели они в красный вагон, исчезла. Хотя, как это - исчезла? Не сама же, испугавшись фронта, из вагона выпрыгнула, назад подалась. Нет, его ложка была не из трусливых. Она с отцом Янтимера, Янбирде-солдатом, еще ту германскую прошла, в боях и походах закалилась, жизнь, с ее горечью и сладостью, вдоволь похлебала, набралась житейской мудрости. Каши-супа из котелка, горшка, чугунка, тарелки прямиком в рот, капли не обронив, бессчетно перетаскала, хорошо тянула, такая была ложка - хоть коренником ее запрягай! С правого краю, словно лезвие ножа, сточилась. Мать Янтимера, левша Гульгай-ша-енге, так обточила ее, что ни день - дно казана отскребывала. Это была не просто ложка - боевое оружие. Такие своей волей службы не бросают - разве только сгорят или сломаются. Надежный будет у моего сына спутник, - думала Гульгайша-енге. И вот как вышло...
Солдату остаться без ложки - все равно что без еды остаться. И на душу смута. Тем более в такой дороге: кажется, что пищу, тебе на этом свете назначенную, ты уже доел. Потеряйся нож, не так бы тревожно было.
В солдатском вагоне по обе стороны настелены нары в два яруса. Набилось человек тридцать. Все в одинаковой форме, все одинаково бритоголовые, и с лица сразу не отличишь. К тому же и света маловато только от приоткрытой двери. Одни с вечера, сразу как сели в вагон, перезнакомились, другие пока в стороне держатся, в компанию не входят, эти, видно, еще душой от дома не оторвутся. Возле двери стоит худощавый паренек, печальную песню поет. До тех, кто в вагоне, ему дела нет. Он свою песню сквозь открытую дверь туда, к оставшимся, с кем разлучен, посылает.
Я вышел в путь, а путь все длится, длится,
И я к Уфе дорогу потерял.
Боясь душою мягкой прослезиться,
Руки тебе, прощаясь, не подал.
По щекам паренька катятся слезы. И впрямь "душа мягкая". Влюблен, видать. Любовь, пока через тоску разлуки не пройдет, вот такой, малость слезливой, бывает. Певец вдруг замолчал. Маленькая голова, острый нос - он в этот миг стал похож на дятла. К тому же стянутая ремнем гимнастерка оттопырилась сзади, совсем как хвост. Вот-вот он в сердцах тюкнет клювом дверной косяк. Нет, не тюкнул.
А вон там, свесив ноги, сидит на верхней полке еще один - лет двадцати пяти, иссиня-черные волосы, впалые щеки, горбатый, чуть скривленный набок нос. Ростом далеко не ушел, но каждый кулак - с добрую кувалду. На глаз видно, какие они увесистые. Дня не прошло, а этот молотобоец стал в вагоне за атамана.
- Я - Мардан Гарданов, прошу любить и жаловать, - сказал он вчера, как только эшелон тронулся. - Я такой: любишь меня - и я люблю, а не любишь... луплю! - И, довольный, что так складно сказал, так же ладно рассмеялся. - Я думаю, вы меня полюбите. Так что не бойтесь.
Сначала его выходка показалась странной, насторожила. Однако улыбчивое его нахальство, простодушная заносчивость, похвальба напропалую позабавили. А потом все это даже пришлось по душе. Речь у него только об одном, о лошадях. Говорит вдохновенно, все забыв, хмелея даже. Оказывается, в Зауралье, в совхозе он был "объездчиком-укротителем" - выезжал под седло полудиких лошадей, которые ходили в табуне, узды и седла не знали. И свои "люблю" и "луплю" он, наверное, сказал так, из ухарства.
- Если всех лошадей, какие через мои руки прошли, вместе собрать, полную дивизию в седло посадить можно, - похвастался он, - и еще коней останется. А если всю водку слить, какую я выпил!.. Впрочем, чего ее сливать, кому она нужна, выпитая водка? А вот лошадь... да-а, лошадь... Ты мне любого черта дай... моргнуть не успеешь, а черт уже, что ангел небесный, по струнке идет! Только один с хребта скинул и копытом нос мне своротил, - он пощупал свой нос. - Рыжий был жеребец. Рыжая масть упрямая бывает, дурная, а саврасая или буланая - послушная, терпеливая; вороная масть - сплошь скрытная и хитрая, а вот белая - чуткая и чувствительная, особенно кобылицы. Думаешь, зря в старину батыры на Акбузатах* ездили?
* Акбузат - мифический конь белой масти.
Правда ли, нет ли все эти его рассуждения о нравах-повадках лошадиных мастей - неизвестно. Но слушатели верят. А коли верят, значит, так оно и есть.
Янтимера еще в детстве лошадиный бес пощекотал, и рассказ Гарданова он слушал так, что сердце замирало. Еще до того, как поступить в театральный техникум, он четыре лета помогал пасти колхозный табун, и потом, когда учился, каждое лето, вернувшись домой, брался за эту же работу. Казалось, не то что повадки - он даже мысли каждой лошади в табуне знал. А вот чтобы норов по масти различать, - такого не помнит. "Наверное, объездчик-укротитель больше знает. А ведь интересно..." - сказал он про себя и подошел к Мардану Гарданову. Встал перед ним... да и застыл. Что это? В глазах мерещится?..
Если бы только мерещилось!
Из левого кармана гимнастерки Гарданова торчала ручка оловянной ложки - его, Янтимера, ложки! Она самая! На конце ее выцарапана родовая Байназаровых тамга - "заячий след". Укротитель диких коней уже завел новую побасенку. Слушатели опять расхохотались. Янтимер же ничего не слышал, стоял и смотрел. Хотел сказать что-то... Куда там! Только - тук-тук, тук-тук - перестук колес бился в ушах. Не то что слово сказать... Только перестук колес в ушах.
А может, не колеса это - кровь в ушах стучит? Перед ним вор. Ложку украл. Да хоть иголку - все равно вор. Вот сейчас Янтимер схватит вора за шиворот, закричит, осрамит его на весь вагон. "Ты вор! Бесстыжий! Ты никудышный товарищ!" - закричит он. Вот только с духом немного соберется... и скажет: "Попросил бы, я и сам отдал. Дело не в ложке. Дело в тебе самом".
С духом не собрался, язык не повернулся. Нет, увесистых кулаков Гарданова он не испугался. Перед людским бесстыдством спасовал. "Эх ты, Янтимер!* - вдруг вскинулось сознание. - Дух твой не железный - а тесто, воск, кисель! Вора в воровстве уличить силы не хватило. Засмущался, струсил... Размазня! А еще с врагом сражаться едешь. Родину защищать! Геройство выказать! Комедиант несчастный!" - "Комедиант" - это он уколол себя тем, что учился на артиста.
* Янтимер - железный духом (башк.).
Разум бушует, а язык молчит.
И вот что ясно почувствовал Янтимер: он тогда не только взятую из дому ложку, но какую-то частицу своего достоинства потерял. Вот как оно выходит - коли вещь твою украдут, то и душу без ущерба не оставят.
* * *
...В роще, где береза смешалась с осиной, мотострелковая бригада коротала последнюю свою ночь накануне ухода на передовую. На рассвете она выстроится... Потом все кончится, и в...часов ноль-ноль минут она тронется с места. А пока между благополучно миновавшим "вчера" и неведомым "завтра" спят, размякнув, тысячи людей. Кто в землянке, кто в палатке, кто в шалаше. Только часовые бодрствуют. И еще трое... Один из них - комиссар бригады Арсений Данилович Зубков, другой - командир мехбата капитан Ка-зарин, ну а третий - командир взвода разведки Янтимер Байназаров. И в палатке медсанбата не спит одна девушка. Но ее печаль иная - ее тоска не на смертной еще черте.
Одиночные взрывы вдалеке не могут сотрясти покоя этой ночи. А ночь людям не только для любви и злодейства, она и для раздумий дана. Не будь ее, человек не знал бы ни сомнений, ни раскаянья, не смог бы судить о самом себе.
В застланном травой и листьями шалаше рядом с Янтиме-ром спит, по-детски посапывая, начальник техники артдивизиона техник-лейтенант Леонид Ласточкин. Уткнулся носом под левый локоть, словно спрятал клюв под крылом, и спит. Леня на два года старше Янтимера, но рядом с ним выглядит совсем подростком. И натурой своей еще из детства не вышел, все время в голове роятся какие-то несбыточные планы, мечты, надежды. Нет такой работы, чтобы ему не с руки, нет такого поручения, за которое он не взялся бы со всем усердием. Скажи ему: "Леня, вытащи вот этот колышек зубами", и он тут же своими торчащими, как долото, расшатанными на двухмесячной пшенной баланде зубами в колышек и вцепится. Он не думает, получится - не получится, прикидкой, с какой стороны взяться, тоже себя не утруждает. Что скажут сделает, что поручат - исполнит. Одного подстрижет, другому каблук к сапогу прибьет, третьему треснувший черенок лопаты заменит. Туда-сюда его носит, за одно берется, за другое. А если что не вышло - он не убивается, иную заботу ищет, в новую суматоху ныряет. И все это без малейшей корысти. Все старается доброе дело сделать, кому-то пользу принести. А у самого гимнастерка уже засалилась, пилотка от пота и грязи заскорузла, пуговицы на шинели через одну остались. Постирать, зачинить, пришить руки не доходят. Командир дивизиона - кадровый военный. Неряшливости на дух не выносит. Только увидит офицера или солдата, у которого одежда в чем-то не по уставу, разнесет в пух и прах, потом еще и взыскание наложит. А вот на Ласточкина рукой махнул: дескать, должен же быть один недотепа на дивизион, пусть ходит.
Ласточкин, печали не ведающий, почмокал во сне губами. Видно, какое-то угощение привалило. Ему что? Встанет утром и, развевая полами шинели, туда побежит, сюда ринется, пушки, минометы, пулеметы, автомашины в дивизионе проверит, осмотрит все, на кухню заглянет, принесет котелок жидкой пшенной баланды на двоих с Янтимером и, когда будут хлебать ее, уставит на друга свои голубенькие глазки да посулит: "Я тебя, дружок, бог даст, уж так накормлю - до отвалу, до отрыжки". - "Чем, когда?" - спросит потчуемый. Ответ придет скорый и ясный: "Чем-нибудь, когда-нибудь", - скажет хлебосол.
Лунный свет осторожно, на цыпочках вошел через лаз внутрь шалаша. Коснулся серого лба лежавшего головой к выходу Ласточкина. Янтимер вскочил и сел. Отодвинулся невольно. Будто и не Леня Ласточкин лежит рядом, а высохшая закостеневшая лягушка. Откуда вдруг неприязнь такая? И к кому - к другу, который столько месяцев всегда рядом с тобой, голову положить, душу за тебя отдать готов? Чем так уязвил, чем обидел? Ничем вроде не обидел, ничем не уязвил. Только однажды он был причиной унижения Янтимера.
Тогда Янтимер особенно не переживал и потом не вспоминал, в душе не пережевывал. Ну, было и прошло. Но теперь, в тягостную эту ночь, толкнулось в памяти то унижение, та потеря.
Байназаров вышел из шалаша, сел, прислонившись спиной к березе. Лунный свет загустел, падающие листья он не отпускает сразу, а будто держит на весу, и листья теперь опускаются медленней, плавней. И только упав на землю, перешепчутся о чем-то. От щедрого света мутится рассудок, перехватывает дыхание.
Совсем близко раздался резкий сухой окрик:
- Стой! Кто идет?
- Разводящий!
- Пароль?
Это возле гауптвахты. Смена караула. Осужденного стерегут.
А Ласточкин знай себе спит... Утром встанет, протрет кулачками голубые свои глаза и так, словно во всем мире ни беды, ни войны, широко улыбнется. Потом слегка накренит лежащую за шалашом каску с водой, плеснет на глаза две-три капли - и умыт. (Каска Ласточкина пока что им обоим служит умывальником.) Подолом гимнастерки вытрет руки. А лицо и само на ветерке обсохнет. А пока он, причмокивая губами, сладкие сны гоняет. "Вот для кого ни бед ни забот", - опять подумал Янтимер.
С Ласточкиным они встретились семь месяцев назад. Стояли лютые февральские дни. Три лейтенанта - Леонид Ласточкин, Янтимер Байназаров и Зиновий Заславский - только что закончили разные училища и в одну и ту же ночь прибыли в Терехту, где формировалась мотострелковая бригада. Все втроем сошлись они в райвоенкомате. Здесь о бригаде еще и слыхом не слыхивали. Хромой капитан, работник военкомата, дал такой дельный совет:
- Вы пока отдыхайте. Если что, я вестового пошлю.
- А где мы отдыхать будем? И как? - поинтересовался любознательный Ласточкин.
- А вы что, не устроились разве?
- Нет.
- Вон как... - Капитан зачем-то выдвинул ящик стола. И снова, уже протяжней: - Вон, значит, ка-ак... - И вздохнул: - И даже ведь кумушки-вдовушки с дойною коровушкой у нас нет, будь ты неладен! Не город, а недоразумение какое-то...
Капитан-то, похоже, человек бывалый, "вдовушку с коровушкой" он произнес так, будто на вкус попробовал.
- Ребята! А вот что... - вдруг оживился он. - В конце этой улицы дом есть - извозчики там останавливались. Первейший в Терехте хотель. Так что я вас в хотель и определяю! - Он со стуком задвинул ящик стола. Будто троих лейтенантов тоже посадил туда, и делу конец.
- А где продукты по аттестату получить будет можно? - опять не смог унять своей любознательности Ласточкин.
- Будет нельзя.
- Как это?
- А нет у нас такого места. Пока бригада не сформируется, будете на подножном корму, - объяснил капитан.
- А как это?
- А как придется. Как птички божии.
Вот так, с распростертыми объятиями встретила Терехта трех лейтенантов. "Хотель" и впрямь оказался на славу. В большой комнате - шесть голых железных кроватей. В глубине комнаты стоит стол. Даже табуретки есть. Правда, одеяла, подушки, простыни на днях только отдали детишкам, вывезенным по ладожскому льду из осажденного Ленинграда, их разместили через улицу в здании почты. Так что в смысле убранства "хотель" немного пустоват. Но краса его, пылающая его душа - большая чугунная печь посередине комнаты. Она все время топится. Дров - полные сени. Видать, рачительный хозяин их загодя, весной заготовил, еще до войны. Сложил и ушел на фронт. Теперь здесь правит Поля, цыганка лет пятидесяти - медовый язык, приветливая душа. Высокое звание постояльцев у нее с языка не сходит, только и слышно: "Лейтенантики-касатики, подметите пол", "лейтенантики-касатики, сходите за водой..." Понемногу лейтенантики тоже начали друг друга "касатиками" звать. Цыганка и сама, руки скрестив, сиднем не сидит, на чужую работу со стороны не смотрит. Раздаст приказы своим "военным силам" и бежит через дорогу в почтовую контору к ленинградским ребятишкам. День-деньской с ними. "Даже ведь ложку поднять силенок нет у бедняжек", - убивается она.
Касатики от дела не отлынивают. Особенно Ласточкин. С первого же часа показал себя проворным, заботливым товарищем. Родом он из этих же мест, Однако словоохотливый Леня о доме, о родне говорить не любит. Однажды только обронил: "Я в чужом гнезде рос, вечно исклеванный".
В двадцать первом, когда голод выморил всю их семью подчистую, двухлетнего Леню взял к себе дядя, живший в соседней деревне. Так и рос в чужом доме лишним ртом, одни попреки слышал. У крутой бессердечной тетки только одно и было слово для него: "Дохлятина". Он и впрямь был голь-ные кости. И старше стал - особо не выгулялся. Да и на чем выгуливаться-то? Бывало, обидят его совсем уж больно, сядет он и заплачет горько: "Отчего же с отцом-матушкой вместе и меня не схоронили? Лежал бы себе в могилушке..." Шесть лет всего, а жить не хочет! Когда же маленько подрос и работа какая уже была с руки - отношение к нему изменилось. Послушный, старательный, он и дома и в поле был усердный, что скажут и чего сказать не успеют - все мигом исполнит. В учебе тоже бог сметкой не обидел. Отучился четыре года в Ярославле и вернулся с документом, что теперь он "техник железной дороги". Дома только показался и уехал по назначению в Сибирь.
Самый старший среди них - Зиновий Давидович Заславский. До войны он преподавал философию в Киевском университете. Его семья - жена и двое маленьких детей - остались там, на занятой врагом территории. Ночами он долго лежит без сна. Только иной раз вздохнет глубоко. Но горе свое в себе держит, с товарищами не делит: разве, дескать, он один такой сейчас? Сюда он прибыл, окончив курсы шифровальщиков.
Ну а Янтимер Байназаров - актер. Ему только недавно исполнилось двадцать. Артист, который не успел ни разу выйти на профессиональную сцену, как сам говорит, - комедиант. Высокий, статный, крепкий телом джигит, широкоскулый, с чуть приплюснутым носом, густыми черными бровями. Мечтал сыграть на сцене роль поэта и полководца Са-лавата Юлаева, но судьба покуда приготовила ему в жизни другую роль - командира взвода разведки.
Замков-запоров в "хотеле" нет, открыт для всех, документов не спрашивают, денег не берут. Иной раз набежит человек пять-шесть, переночуют и уйдут. Места всем хватает, пол широкий. А иную ночь никого не бывает только сами.
Сложили крохи из трех вещмешков и с грехом пополам протянули три дня. Заславский принес из библиотеки охапку книг. Хотели чтением голод отвести но он не больно-то уводился, он теперь тоже хитрый. На четвертый день стало совсем невмоготу. И никуда не пойдешь, ничего не придумаешь. Но все же шустрый Ласточкин долго пропадал где-то и вернулся с буханкой хлеба за пазухой. А самого так и трясет, продрог насквозь. Но войдя, к печи сразу не пошел, а двумя руками выложил хлеб на стол. На вопрос: "Откуда?" давать полный ответ не счел нужным, бросил только: "Законным путем". А по правде, он эту буханку выпросил в хлебном магазинчике на окраине - так, без карточки, попросту вымолил. "Не для себя, сам-то я могу и не есть, товарищ у меня болен, кроме хлеба, ничего душа не принимает", - уверял он девушку-продавщицу. А чтоб в его бесхитростные голубые очи заглянуть и каждому его слову не поверить - такого не бывает. Простому смертному это не по силам.
Вот он, на столе - с блестящим черным верхом, с желтыми боками золотой кирпич. С кипятком же полный достаток. Большой жестяной чайник целый день на чугунной печке песни тянет - так выводит, будто созывает к застолью, которое ломится от угощения.
Только лейтенант Ласточкин разделил хлеб на четыре куска по справедливости (к ним тут на днях прибилась еще одна "птичка божия"), как в дверь боком ввалился кто-то в старом нагольном тулупе, в подшитых валенках с обрезанными голенищами, голова обмотана вафельным, когда-то белым, полотенцем. Огромный и нескладный, он втащил с собой облако холодного пара.
- Говорят, счастье задом входит, а этот боком влез, - отметил Ласточкин. - К добру бы.
Верзила, не опуская воротника тулупа, оглядел комнату, заметив возле печки стул, молча прошел и сел.
- Ух! Скрючило, как коровью лепешку на базу. Думал, уже не разогнусь. - Он надрывно закашлялся. Долго кашлял. Заславский налил в кружку кипятку и подал ему. Тот глотнул два раза, и кашель отпустил.
- Здорово, ребята! Я Пэ Пэ Кисель. Прокопий Про-копьевич Кисель. Ветеринарный фельдшер. Коновал, значит, полковой... - Он опустил воротник тулупа, размотал полотенце - и явилась ладная округлая голова тридцатипятилетнего мужчины с широким лбом и круглыми глазами. Лицо выбрито так чисто, что Янтимер подумал: "Острая у него бритва - действительно, коновал".
- Оно, конечно, мундир мой под устав не идет... Мало того, прошлой ночью шапку в вагоне сперли. Из Коврова ехал.
- Так вы, наверное, еще и голодный, - сказал мягкосердечный Ласточкин.
- Да уж позабыл, как едят... Оттого и окоченел. А здесь тепло. Не зря хромой-то капитан в военкомате хвалил: "хотель", дескать. Ну вот, куда назначено, прибыл. Теперь все на лад пойдет.
Ласточкин сунул один из четырех ломтей Киселю. Тот сказал "спасибо" и, опустив голову, прихлебывая из кружки, принялся неспешно есть. От ломтя кусками не отхватывал, откусывал помаленьку, словно лишь чуть губами касался. Смирная лошадь так ест. Байназаров с удивлением смотрел на этого большого, богатырского сложения человека. Он представил его среди лошадей. Лошади таких любят, по пятам ходят. А вот тщедушных, нескладных лошадь не выносит. Сядет такой хилый верхом, и лошадь от стыда начинает артачиться, вот, дескать, до какого дня дожила, под кем ходить приходится. А если богатырь в седле, ей и тяжесть не в тяжесть, от гордости, от азарта не знает, куда ступить, на месте пляшет. И то нужно сказать, коротышка, от нехватки роста или силы, тоже бывает к лошади придирчивым и мстительным. Вот сосед Янтимера, по прозвищу Скалка, еще до того, как вступить в колхоз, каждый день молотил свою пегую кобылу кнутовищем по голове. В конце концов и пегая кобыла взяла свое, передним копытом хозяину в пах приладила - чем дальнейшее Скалкино воспроизводство и остановила. Это всему аулу известно. Ибо... за четыре года принесшая троих, верная мужу Марфуга-енге с деторождением оборвала разом. Аминь!
Еще вспомнился Байназарову "объездчик-укротитель" Мардан Гарданов, тот самый, что и "любит" и "лупит". Наверное, тоже человек жестокий. И щедрому его смеху верить нельзя. А вот Кисель совсем другой.
Прокопий Прокопьевич тем временем дожевал последний кусочек хлеба и, запрокинув кружку, допил кипяток до капли.
- Спасибо, хлопцы, душа домой вернулась, - сказал он. Сняв тулуп, повесил его рядом с шинелями. Под тулупом оказалась хоть и порядком уже заношенная, но без дыр, без заплат черная суконная пара.
Чего только не изведал Прокопий Прокопьевич, пока не добрался до Терехты! С июля по самый сентябрь сорок первого он вместе с тремя товарищами гнал стадо коров от Чернигова до Саратова. Три раза попадали под бомбежку, два раза отступавшие войска обгоняли, оставляя их за линией фронта. Отстать от своих было всего страшнее. Но и в этих тяготах он не терялся, стадо не бросил, раненой корове раны перевязывал, занемогшую лекарствами отпаивал, у той, которая пала, со слезами просил прощения: "Не взыщи, душа замученная! Не было у меня мочи спасти тебя". Стадо свое слишком не гнал, да и гнал бы, все равно на коровьей рысце шибко не угонишь. Но не останавливался. Шли да шли. Все четверо погонщиков измучились, исхудали, кожа да кости. Ноги у грузного Киселя опухли, почернели... Но даже когда последние надежды готовы были рухнуть, веры не терял. "Все равно не догонишь, супостат! Не у тебя правда, а у моих безвинных коровушек", - говорил он.
И, когда уже траву выбеливали утренники, всех уцелевших коров доставили в пункт назначения, в Саратов. Человеку, который принимал стадо, Кисель еще сунул пачку расписок на скот, сданный воинским частям, и сказал: "А эти свой долг еще до срока исполнили". А сам ветфельдшер и трое его товарищей уже не стояли на ногах, их отправили в лазарет. Отлежав три недели, набрав немного веса, округлившись лицом, Прокопий Прокопьевич вышел из госпиталя. Валил на Тамбовщине лес, потом был грузчиком на железнодорожной станции, рыл противотанковые рвы под Москвой, работал в госпитале санитаром. Но все время надеялся попасть в кавалерийскую часть. "Один бес плутает без надежды", - думал он. А его надежда всегда при нем, потому и получил наконец в должном месте должную бумагу и отправился из Москвы в Муром, из Мурома в Ковров, из Коврова сюда. Так и прибыл в Терехту. На руках документ: "Направляется в...тую конноартиллерийскую дивизию ветфельдшером".
Прокопий Прокопьевич достал из нагрудного кармана тряпичный кисет, вынул оттуда бумагу и протянул Заславскому, видимо, посчитал среди них за старшего.
- Вот... Стало быть, теперь на учет поставят и одежду, какую положено, выдадут.
- Одежду-то выдадут... - поджал тонкие губы Заславский. - Только часть не ваша. Здесь мотострелковая бригада будет формироваться.
- Да нет же! Тут "артиллерия на конной тяге" написано. Вот почитайте... и все прочитайте. Вот печать. При печати ошибки не положено. С такими муками добирался... не должно быть ошибки. - Кисель сразу сник.
Байназаров от души пожалел Прокопия Прокопьевича.
- Для одного-то вас в бригаде место найдется, - постарался он утешить его. - Назад не отправят.
- Мне ведь не место нужно, ребята, мне лошадь нужна, живая душа, вздохнул Кисель.
Кто-то громко протопал в сенях и начал дергать, не в силах открыть плотно усевшуюся дверь. Янтимер ударил в дверь ногой. Улыбаясь, вошел горбун, он уже две ночи подряд ночевал в "хотеле".
- Ну и лютует, а? Плюнь - сразу ледышка. Три раза плюнул, и три раза тюк!
Он в свои кирзовые, с широкими голенищами сапоги чуть не по самое гузно сел. Стеганка с обгорелой правой полой достает ему чуть ниже пояса горб оттягивает. Два уха тряпичной шапчонки в обе стороны торчат, к тому же и грудь нараспашку.
- И сегодня не повезло! - оживленно сообщил он. И голосом цыганки Поли, отдающей по утрам приказания, продолжил: - Вы, лейтенантики-касатики, не унывайте, все равно весна придет, мы ее не увидим, так другие увидят. Цивильным привет! - кивнул он Киселю.
Возраст у горбуна непонятный. Тридцать дай, пятьдесят дай - все примет. Он - по торговой части, сюда из-под Смоленска, от оккупации бежал. Когда спросили имя-отчество, сказал, чтоб звали Тимошей. Хрипит-сипит, а вонючий самосад курит без остановки. Единственная, видно, у мужика утеха. Потому и терпят, ни слова не скажут. Он ждет назначения в сельпо в деревне Вертушино, километрах в четырех отсюда. Только районное начальство все тянет чего-то. Видно, Тимошино происхождение, отцов-дедов проверяют. А чего проверять, все его богатство-достояние - кисет самосада, горб сзади и чистая улыбка, что любое сердце растопит.
Карим Мустай
Помилование
Мустай Карим
"Помилование"
Перевод с башкирского Ильгиза Каримова
И что за мысль, ну об этом ли думать... В такой страшный час привязалась - страшнее часа ожидания смерти. И мысль-то не мысль, воспоминание одно. Там, над шалашом, лунная ночь - сердце теснит. С шорохом падают сухие листья - листья двадцатой осени Янтимера. Иной ударится о землю и прозвенит тягуче. Это, наверное, осиновый лист. Березовый так не прозвенит, он помягче. Или вместе с листьями, звеня, осыпается лунный свет? Луна полная, и тоже с этой ночи в осыпь пошла. А полная луна с детства вгоняла Янтимера в тоску и тревогу. Сейчас тоже. Впереди бесконечная ясная ночь. Будь она темная, с дождем и ветром, может, прошла бы легче и быстрей, а тут - замерла, словно тихое озеро, не течет и не всплеснет даже.
А память своим занята - она потери перебирает, крупные и мелкие. Отчего же не находки, не обретения, а утраты? На это Янтимер и сам бы ответить не смог. И правда, почему? Какие у него, у двадцатилетнего лейтенанта Янтимера Байна-зарова, потери, чтобы перед тем, как на рассвете совершить страшное дело, исполнить беспощадный долг, вот так перебирать их? Видно, есть. Время до войны в этот счет не входит. Там - другая жизнь, другой мир. Даже иная тогдашняя потеря теперь кажется находкой.
И странно - этот счет начался с ложки.
Первая напасть, случившаяся с ним на воинской стезе,- он ложку потерял. Широкая оловянная ложка, которую мать сунула ему в мешок, первой же ночью, как сели они в красный вагон, исчезла. Хотя, как это - исчезла? Не сама же, испугавшись фронта, из вагона выпрыгнула, назад подалась. Нет, его ложка была не из трусливых. Она с отцом Янтимера, Янбирде-солдатом, еще ту германскую прошла, в боях и походах закалилась, жизнь, с ее горечью и сладостью, вдоволь похлебала, набралась житейской мудрости. Каши-супа из котелка, горшка, чугунка, тарелки прямиком в рот, капли не обронив, бессчетно перетаскала, хорошо тянула, такая была ложка - хоть коренником ее запрягай! С правого краю, словно лезвие ножа, сточилась. Мать Янтимера, левша Гульгай-ша-енге, так обточила ее, что ни день - дно казана отскребывала. Это была не просто ложка - боевое оружие. Такие своей волей службы не бросают - разве только сгорят или сломаются. Надежный будет у моего сына спутник, - думала Гульгайша-енге. И вот как вышло...
Солдату остаться без ложки - все равно что без еды остаться. И на душу смута. Тем более в такой дороге: кажется, что пищу, тебе на этом свете назначенную, ты уже доел. Потеряйся нож, не так бы тревожно было.
В солдатском вагоне по обе стороны настелены нары в два яруса. Набилось человек тридцать. Все в одинаковой форме, все одинаково бритоголовые, и с лица сразу не отличишь. К тому же и света маловато только от приоткрытой двери. Одни с вечера, сразу как сели в вагон, перезнакомились, другие пока в стороне держатся, в компанию не входят, эти, видно, еще душой от дома не оторвутся. Возле двери стоит худощавый паренек, печальную песню поет. До тех, кто в вагоне, ему дела нет. Он свою песню сквозь открытую дверь туда, к оставшимся, с кем разлучен, посылает.
Я вышел в путь, а путь все длится, длится,
И я к Уфе дорогу потерял.
Боясь душою мягкой прослезиться,
Руки тебе, прощаясь, не подал.
По щекам паренька катятся слезы. И впрямь "душа мягкая". Влюблен, видать. Любовь, пока через тоску разлуки не пройдет, вот такой, малость слезливой, бывает. Певец вдруг замолчал. Маленькая голова, острый нос - он в этот миг стал похож на дятла. К тому же стянутая ремнем гимнастерка оттопырилась сзади, совсем как хвост. Вот-вот он в сердцах тюкнет клювом дверной косяк. Нет, не тюкнул.
А вон там, свесив ноги, сидит на верхней полке еще один - лет двадцати пяти, иссиня-черные волосы, впалые щеки, горбатый, чуть скривленный набок нос. Ростом далеко не ушел, но каждый кулак - с добрую кувалду. На глаз видно, какие они увесистые. Дня не прошло, а этот молотобоец стал в вагоне за атамана.
Я - Мардан Гарданов, прошу любить и жаловать, - сказал он вчера, как только эшелон тронулся. - Я такой: любишь меня - и я люблю, а не любишь... луплю! - И, довольный, что так складно сказал, так же ладно рассмеялся. - Я думаю, вы меня полюбите. Так что не бойтесь.
Сначала его выходка показалась странной, насторожила. Однако улыбчивое его нахальство, простодушная заносчивость, похвальба напропалую позабавили. А потом все это даже пришлось по душе. Речь у него только об одном, о лошадях. Говорит вдохновенно, все забыв, хмелея даже. Оказывается, в Зауралье, в совхозе он был "объездчиком-укротителем" - выезжал под седло полудиких лошадей, которые ходили в табуне, узды и седла не знали. И свои "люблю" и "луплю" он, наверное, сказал так, из ухарства.
Карим Мустай
Помилование
Мустай Карим
"Помилование"
Перевод с башкирского Ильгиза Каримова
И что за мысль, ну об этом ли думать... В такой страшный час привязалась - страшнее часа ожидания смерти. И мысль-то не мысль, воспоминание одно. Там, над шалашом, лунная ночь - сердце теснит. С шорохом падают сухие листья - листья двадцатой осени Янтимера. Иной ударится о землю и прозвенит тягуче. Это, наверное, осиновый лист. Березовый так не прозвенит, он помягче. Или вместе с листьями, звеня, осыпается лунный свет? Луна полная, и тоже с этой ночи в осыпь пошла. А полная луна с детства вгоняла Янтимера в тоску и тревогу. Сейчас тоже. Впереди бесконечная ясная ночь. Будь она темная, с дождем и ветром, может, прошла бы легче и быстрей, а тут - замерла, словно тихое озеро, не течет и не всплеснет даже.
А память своим занята - она потери перебирает, крупные и мелкие. Отчего же не находки, не обретения, а утраты? На это Янтимер и сам бы ответить не смог. И правда, почему? Какие у него, у двадцатилетнего лейтенанта Янтимера Байна-зарова, потери, чтобы перед тем, как на рассвете совершить страшное дело, исполнить беспощадный долг, вот так перебирать их? Видно, есть. Время до войны в этот счет не входит. Там - другая жизнь, другой мир. Даже иная тогдашняя потеря теперь кажется находкой.
И странно - этот счет начался с ложки.
Первая напасть, случившаяся с ним на воинской стезе,- он ложку потерял. Широкая оловянная ложка, которую мать сунула ему в мешок, первой же ночью, как сели они в красный вагон, исчезла. Хотя, как это - исчезла? Не сама же, испугавшись фронта, из вагона выпрыгнула, назад подалась. Нет, его ложка была не из трусливых. Она с отцом Янтимера, Янбирде-солдатом, еще ту германскую прошла, в боях и походах закалилась, жизнь, с ее горечью и сладостью, вдоволь похлебала, набралась житейской мудрости. Каши-супа из котелка, горшка, чугунка, тарелки прямиком в рот, капли не обронив, бессчетно перетаскала, хорошо тянула, такая была ложка - хоть коренником ее запрягай! С правого краю, словно лезвие ножа, сточилась. Мать Янтимера, левша Гульгай-ша-енге, так обточила ее, что ни день - дно казана отскребывала. Это была не просто ложка - боевое оружие. Такие своей волей службы не бросают - разве только сгорят или сломаются. Надежный будет у моего сына спутник, - думала Гульгайша-енге. И вот как вышло...
Солдату остаться без ложки - все равно что без еды остаться. И на душу смута. Тем более в такой дороге: кажется, что пищу, тебе на этом свете назначенную, ты уже доел. Потеряйся нож, не так бы тревожно было.
В солдатском вагоне по обе стороны настелены нары в два яруса. Набилось человек тридцать. Все в одинаковой форме, все одинаково бритоголовые, и с лица сразу не отличишь. К тому же и света маловато только от приоткрытой двери. Одни с вечера, сразу как сели в вагон, перезнакомились, другие пока в стороне держатся, в компанию не входят, эти, видно, еще душой от дома не оторвутся. Возле двери стоит худощавый паренек, печальную песню поет. До тех, кто в вагоне, ему дела нет. Он свою песню сквозь открытую дверь туда, к оставшимся, с кем разлучен, посылает.
Я вышел в путь, а путь все длится, длится,
И я к Уфе дорогу потерял.
Боясь душою мягкой прослезиться,
Руки тебе, прощаясь, не подал.
По щекам паренька катятся слезы. И впрямь "душа мягкая". Влюблен, видать. Любовь, пока через тоску разлуки не пройдет, вот такой, малость слезливой, бывает. Певец вдруг замолчал. Маленькая голова, острый нос - он в этот миг стал похож на дятла. К тому же стянутая ремнем гимнастерка оттопырилась сзади, совсем как хвост. Вот-вот он в сердцах тюкнет клювом дверной косяк. Нет, не тюкнул.
А вон там, свесив ноги, сидит на верхней полке еще один - лет двадцати пяти, иссиня-черные волосы, впалые щеки, горбатый, чуть скривленный набок нос. Ростом далеко не ушел, но каждый кулак - с добрую кувалду. На глаз видно, какие они увесистые. Дня не прошло, а этот молотобоец стал в вагоне за атамана.
Я - Мардан Гарданов, прошу любить и жаловать, - сказал он вчера, как только эшелон тронулся. - Я такой: любишь меня - и я люблю, а не любишь... луплю! - И, довольный, что так складно сказал, так же ладно рассмеялся. - Я думаю, вы меня полюбите. Так что не бойтесь.
Сначала его выходка показалась странной, насторожила. Однако улыбчивое его нахальство, простодушная заносчивость, похвальба напропалую позабавили. А потом все это даже пришлось по душе. Речь у него только об одном, о лошадях. Говорит вдохновенно, все забыв, хмелея даже. Оказывается, в Зауралье, в совхозе он был "объездчиком-укротителем" - выезжал под седло полудиких лошадей, которые ходили в табуне, узды и седла не знали. И свои "люблю" и "луплю" он, наверное, сказал так, из ухарства.
Если всех лошадей, какие через мои руки прошли, вместе собрать, полную дивизию в седло посадить можно, - похвастался он, - и еще коней останется. А если всю водку слить, какую я выпил!.. Впрочем, чего ее сливать, кому она нужна, выпитая водка? А вот лошадь... да-а, лошадь... Ты мне любого черта дай... моргнуть не успеешь, а черт уже, что ангел небесный, по струнке идет! Только один с хребта скинул и копытом нос мне своротил, - он пощупал свой нос. - Рыжий был жеребец. Рыжая масть упрямая бывает, дурная, а саврасая или буланая - послушная, терпеливая; вороная масть - сплошь скрытная и хитрая, а вот белая - чуткая и чувствительная, особенно кобылицы. Думаешь, зря в старину батыры на Акбузатах* ездили?
* Акбузат - мифический конь белой масти.
Правда ли, нет ли все эти его рассуждения о нравах-повадках лошадиных мастей - неизвестно. Но слушатели верят. А коли верят, значит, так оно и есть.
Янтимера еще в детстве лошадиный бес пощекотал, и рассказ Гарданова он слушал так, что сердце замирало. Еще до того, как поступить в театральный техникум, он четыре лета помогал пасти колхозный табун, и потом, когда учился, каждое лето, вернувшись домой, брался за эту же работу. Казалось, не то что повадки - он даже мысли каждой лошади в табуне знал. А вот чтобы норов по масти различать, - такого не помнит. "Наверное, объездчик-укротитель больше знает. А ведь интересно..." - сказал он про себя и подошел к Мардану Гарданову. Встал перед ним... да и застыл. Что это? В глазах мерещится?..
Если бы только мерещилось!
Из левого кармана гимнастерки Гарданова торчала ручка оловянной ложки - его, Янтимера, ложки! Она самая! На конце ее выцарапана родовая Байназаровых тамга - "заячий след". Укротитель диких коней уже завел новую побасенку. Слушатели опять расхохотались. Янтимер же ничего не слышал, стоял и смотрел. Хотел сказать что-то... Куда там! Только - тук-тук, тук-тук - перестук колес бился в ушах. Не то что слово сказать... Только перестук колес в ушах.
Карим Мустай
Помилование
Мустай Карим
"Помилование"
Перевод с башкирского Ильгиза Каримова
И что за мысль, ну об этом ли думать... В такой страшный час привязалась - страшнее часа ожидания смерти. И мысль-то не мысль, воспоминание одно. Там, над шалашом, лунная ночь - сердце теснит. С шорохом падают сухие листья - листья двадцатой осени Янтимера. Иной ударится о землю и прозвенит тягуче. Это, наверное, осиновый лист. Березовый так не прозвенит, он помягче. Или вместе с листьями, звеня, осыпается лунный свет? Луна полная, и тоже с этой ночи в осыпь пошла. А полная луна с детства вгоняла Янтимера в тоску и тревогу. Сейчас тоже. Впереди бесконечная ясная ночь. Будь она темная, с дождем и ветром, может, прошла бы легче и быстрей, а тут - замерла, словно тихое озеро, не течет и не всплеснет даже.
А память своим занята - она потери перебирает, крупные и мелкие. Отчего же не находки, не обретения, а утраты? На это Янтимер и сам бы ответить не смог. И правда, почему? Какие у него, у двадцатилетнего лейтенанта Янтимера Байна-зарова, потери, чтобы перед тем, как на рассвете совершить страшное дело, исполнить беспощадный долг, вот так перебирать их? Видно, есть. Время до войны в этот счет не входит. Там - другая жизнь, другой мир. Даже иная тогдашняя потеря теперь кажется находкой.
И странно - этот счет начался с ложки.
Первая напасть, случившаяся с ним на воинской стезе,- он ложку потерял. Широкая оловянная ложка, которую мать сунула ему в мешок, первой же ночью, как сели они в красный вагон, исчезла. Хотя, как это - исчезла? Не сама же, испугавшись фронта, из вагона выпрыгнула, назад подалась. Нет, его ложка была не из трусливых. Она с отцом Янтимера, Янбирде-солдатом, еще ту германскую прошла, в боях и походах закалилась, жизнь, с ее горечью и сладостью, вдоволь похлебала, набралась житейской мудрости. Каши-супа из котелка, горшка, чугунка, тарелки прямиком в рот, капли не обронив, бессчетно перетаскала, хорошо тянула, такая была ложка - хоть коренником ее запрягай! С правого краю, словно лезвие ножа, сточилась. Мать Янтимера, левша Гульгай-ша-енге, так обточила ее, что ни день - дно казана отскребывала. Это была не просто ложка - боевое оружие. Такие своей волей службы не бросают - разве только сгорят или сломаются. Надежный будет у моего сына спутник, - думала Гульгайша-енге. И вот как вышло...
Солдату остаться без ложки - все равно что без еды остаться. И на душу смута. Тем более в такой дороге: кажется, что пищу, тебе на этом свете назначенную, ты уже доел. Потеряйся нож, не так бы тревожно было.
В солдатском вагоне по обе стороны настелены нары в два яруса. Набилось человек тридцать. Все в одинаковой форме, все одинаково бритоголовые, и с лица сразу не отличишь. К тому же и света маловато только от приоткрытой двери. Одни с вечера, сразу как сели в вагон, перезнакомились, другие пока в стороне держатся, в компанию не входят, эти, видно, еще душой от дома не оторвутся. Возле двери стоит худощавый паренек, печальную песню поет. До тех, кто в вагоне, ему дела нет. Он свою песню сквозь открытую дверь туда, к оставшимся, с кем разлучен, посылает.
Я вышел в путь, а путь все длится, длится,
И я к Уфе дорогу потерял.
Боясь душою мягкой прослезиться,
Руки тебе, прощаясь, не подал.
По щекам паренька катятся слезы. И впрямь "душа мягкая". Влюблен, видать. Любовь, пока через тоску разлуки не пройдет, вот такой, малость слезливой, бывает. Певец вдруг замолчал. Маленькая голова, острый нос - он в этот миг стал похож на дятла. К тому же стянутая ремнем гимнастерка оттопырилась сзади, совсем как хвост. Вот-вот он в сердцах тюкнет клювом дверной косяк. Нет, не тюкнул.
А вон там, свесив ноги, сидит на верхней полке еще один - лет двадцати пяти, иссиня-черные волосы, впалые щеки, горбатый, чуть скривленный набок нос. Ростом далеко не ушел, но каждый кулак - с добрую кувалду. На глаз видно, какие они увесистые. Дня не прошло, а этот молотобоец стал в вагоне за атамана.
Я - Мардан Гарданов, прошу любить и жаловать, - сказал он вчера, как только эшелон тронулся. - Я такой: любишь меня - и я люблю, а не любишь... луплю! - И, довольный, что так складно сказал, так же ладно рассмеялся. - Я думаю, вы меня полюбите. Так что не бойтесь.
Сначала его выходка показалась странной, насторожила. Однако улыбчивое его нахальство, простодушная заносчивость, похвальба напропалую позабавили. А потом все это даже пришлось по душе. Речь у него только об одном, о лошадях. Говорит вдохновенно, все забыв, хмелея даже. Оказывается, в Зауралье, в совхозе он был "объездчиком-укротителем" - выезжал под седло полудиких лошадей, которые ходили в табуне, узды и седла не знали. И свои "люблю" и "луплю" он, наверное, сказал так, из ухарства.