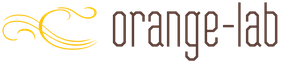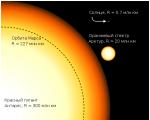Изображение армейской жизни в повестях куприна "юнкера", "кадеты". Анализ рассказа куприна юнкера сочинение Отражение жизни куприна в романе юнкера
Подобно другим крупным русским писателям, которые, оказавшись на чужбине, обратились к жанру художественной автобиографии (И. А. Бунин, И. С. Шмелев, А. Н. Толстой, Б. К. Зайцев и др.), Куприн посвящает своей юности самую значительную вещь – роман “Юнкера”. В определенном смысле это было подведение итогов. “„Юнкера”, – сказал сам писатель, – это мое завещание русской молодежи”.
В романе подробно воссоздаются традиции и быт Третьего Александровского юнкерского училища в Москве, рассказывается о преподавателях и офицерах-воспитателях,
однокашниках Александрова-Куприна, говорится о его первых литературных опытах и юношеской “безумной” любви героя. Однако “Юнкера” не просто “домашняя” история юнкерского училища на Знаменке. Это повествование о старой, “удельной” Москве – Москве “сорока со-роков”, Иверской часовни Божьей Матери и Екатерининского института благородных девиц, что на Царицынской площади, все сотканное из летучих воспоминаний. Сквозь дымку этих воспоминаний проступают знакомые и неузнаваемые сегодня силуэты Арбата, Патриарших прудов, Земляного вала. “Удивительна в „Юнкерах” именно
эта сила художественного видения Куприна,- писал, откликаясь на появление романа, прозаик Иван Лукаш,- магия оживляющего воспоминания, его мозаическая работа создания из „осколочков” и „пылинок” воздушно прекрасной, легкой и светлой Москвы-фрески, полной совершенно живого движения и совершенно живых людей времен Александра III”.
“Юнкера” – и человеческое, и художественное завещание Куприна. К лучшим страницам романа можно отнести те, где лирика с наибольшей силой обретает свою внутреннюю оправданность. Таковы, в частности, эпизоды поэтичного увлечения Александрова Зиной Белышевой.
И все же, несмотря на обилие света, музыки, празднеств – “яростной тризны по уходящей зиме”, грома военного оркестра на разводах, великолепия бала в Екатерининском институте, нарядного быта юнкеров-александровцев (“Роман Куприна – подробный рассказ о телесных радостях молодости, о звенящем и как бы невесомом жизнеощущении юности, бодрой, чистой”, – очень точно сказал Иван Лукаш), это печальная книга. Вновь и вновь с “неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью” писатель мысленно возвращается к России. “Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры,- писал Куприн в очерке “Родина”. – Но все точно понарошку, точно развертывается фильм. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России”.
Другие работы по этой теме:
- В этом романе Куприн описывает традиции Александровского 3 юнкерского училища. Молодой парень поступил в пехотное училище, и решает стать офицером. Куприн пишет, что перед уходом...
- Куприн А. И. В самом конце августа завершилось кадетское отрочество Алеши Александрова. Теперь он будет учиться в Третьем юнкерском имени императора Александра II пехотном училище....
- В самом конце августа завершилось кадетское отрочество Алеши Александрова. Теперь он будет учиться в Третьем юнкерском имени императора Александра II пехотном училище. Еще утром он...
- Что является темой повести А. И. Куприна “Поединок”? а. Быт помещичьей усадьбы б. Нравы военной среды в. Жизнь крестьян – В образе какого героя повести...
- Рассказ А. И. Куприна “Золотой петух” – характерный пример лирических зарисовок этого писателя. Сквозь все его творчество проходит образ природы, которая в художественном мире Куприна...
- Рассказ “Гамбринус” – одно из самых известных произведений Александра Ивановича Куприна. Это мощный гимн интернационализму. Куприн всей душой отрицал национальную рознь. В своей жизни писатель...
- Неореализм А. Куприна вырастал на почве традиций: гротеска Н. Гоголя, лиризма И. Тургенева, реализма Ф. Достоевского, “диалектики души” Л. Толстого. Перенимая у А. Чехова “простоту...
Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.
Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»
Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.
Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.
Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.
Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:
Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:
– Господин капитан, это не я.
Яблукинский закричал:
– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!
Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...
Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.
Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:
«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаюши щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.
После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.
«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...
Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»
Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.
«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».
Во рту у него пересохло и гортань горела.
– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.
Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.
– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?
Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.
– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!
– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.
– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Сссию секунду!
– Не пойду и все тут.
– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?
Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:
– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!
«Юнкера» Куприна А.И.
Подобно другим крупным русским писателям, которые, оказавшись на чужбине, обратились к жанру художественной автобиографии (И. А. Бунин, И. С. Шмелев, А. Н. Толстой, Б. К. Зайцев и др.), Куприн посвящает своей юности самую значительную вещь — роман «Юнкера». В определенном смысле это было подведение итогов. «„Юнкера”, — сказал сам писатель, — это мое завещание русской молодежи».
В романе подробно воссоздаются традиции и быт Третьего Александровского юнкерского училища в Москве, рассказывается о преподавателях и офицерах-воспитателях, однокашниках Александрова-Куприна, говорится о его первых литературных опытах и юношеской «безумной» любви героя. Однако «Юнкера» не просто «домашняя» история юнкерского училища на Знаменке. Это повествование о старой, «удельной» Москве — Москве «сорока со-роков», Иверской часовни Божьей Матери и Екатерининского института благородных девиц, что на Царицынской площади, все сотканное из летучих воспоминаний. Сквозь дымку этих воспоминаний проступают знакомые и неузнаваемые сегодня силуэты Арбата, Патриарших прудов, Земляного вала. «Удивительна в „Юнкерах” именно эта сила художественного видения Куприна,— писал, откликаясь на появление романа, прозаик Иван Лукаш,— магия оживляющего воспоминания, его мозаическая работа создания из „осколочков” и „пылинок” воздушно прекрасной, легкой и светлой Москвы-фрески, полной совершенно живого движения и совершенно живых людей времен Александра III».
«Юнкера» — и человеческое, и художественное завещание Куприна. К лучшим страницам романа можно отнести те, где лирика с наибольшей силой обретает свою внутреннюю оправданность. Таковы, в частности, эпизоды поэтичного увлечения Александрова Зиной Белышевой.
И все же, несмотря на обилие света, музыки, празднеств — «яростной тризны по уходящей зиме», грома военного оркестра на разводах, великолепия бала в Екатерининском институте, нарядного быта юнкеров-александровцев («Роман Куприна — подробный рассказ о телесных радостях молодости, о звенящем и как бы невесомом жизнеощущении юности, бодрой, чистой», — очень точно сказал Иван Лукаш), это печальная книга. Вновь и вновь с «неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью» писатель мысленно возвращается к России. «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры,— писал Куприн в очерке «Родина». — Но все точно понарошку, точно развертывается фильм. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России».
Изображение армейской жизни в повестях Куприна "Юнкера", "Кадеты"
Введение
1. Изображение военной жизни в раннем творчестве Куприна. На подступах к "Кадетам".
2. Автобиографическая повесть "На переломе" ("Кадеты").
3. Творческая история создания романа "Юнкера".
5. Вместо заключения. Армейские военные будни в рассказе "Последние рыцари".
Список литературы
3
5
10
15
18
29
33
Введение.
Большому русскому писателю Александру Ивановичу Куприну суждено было прожить непростую и нелегкую жизнь. Он испытывал взлеты и падения, нищету киевского люмпена и обеспеченность любимого публикой писателя, славу и забвение. Он никогда - или почти никогда - не шел по течению, но часто - против него, не щадя себя, не думая о завтрашнем дне, не боясь утратить завоеванное, начать все заново. В его сильной натуре было много внешне противоречивого и вместе с тем - органически ей присущего, и именно противоречивость характера Куприна во много определяла незаурядность и богатство его личности.
Бросив военную службу, оставшись без средств к существованию, Куприн сумел выбиться из затягивающего болота босяцкого быта, не затеряться среди массы провинциальных газетчиков, обреченных на положение бульварных борзописцев, стал одним из популярнейших русских писателей своего времени. Его имя упоминалось в ряду имен выдающихся реалистов конца XIX - первой половины XX века Андреева, Бунина, Вересаева, Горького, Чехова.
Вместе с тем Куприн, пожалуй, самый неровный писатель во всей русской литературе. Кажется, нельзя назвать другого литератора, создавшего столь разные по своему художественному качеству произведения на протяжении всего творческого пути.
Глубоко русский человек, тоскующий без меткого народного словца, без любимой Москвы, он почти два десятка лет провел вдали от Родины.
"Сложный он, наболевший", - отзывался об Александре Ивановиче Куприне Чехов [А.П. Чехов. Собрание сочинений в 12 т., - М., 1964, т. 12, с. 437].
Очень многое в нем становится понятным при обращении к годам детства - "поруганного детства", по его определению, и юности - именно тогда окончательно складывались, а в чем-то, наверное, и ломались характер и душевный склад будущего писателя.
Не все произведения Александра Ивановича выдержали испытание временем, не все произведения, выдержавшие это испытание, вошли в золотой фонд русской литературы. Но достаточно перечислить лишь некоторые из лучших повестей и рассказов писателя, чтобы убедиться, что они по-прежнему интересны, не отошли в прошлое, как это произошло с наследием несметного числа литераторов, что Куприн по праву занимает почетное место в истории русской литературы.
Художник многообразного жизненного опыта Куприн особенно глубоко изучил армейскую среду, в которой провел четырнадцать лет. Теме царской армии писатель посвятил много творческого труда; именно с разработкой этой темы в значительной степени связаны индивидуальная окраска его таланта, то новое, что внесено им в русскую литературу, которую трудно себе представить без "Дознания", "Прапорщика армейского", "Свадьбы", "Ночлега", "Поединка", "Кадетов", "Юнкеров", посвященных жизни и быту русской армии.
И если кому-то, оценивающему произведения Куприна с позиций изощренного искусства XX века, с его иронией - признаком слабости, - они покажутся в чем то наивными, "простоватыми", напомним ему слова Саши Черного из письма Куприну: "радовался чудесной Вашей простоте и увлеченности - нет их больше в русской литературе..." [Куприна К.А. Куприна - мой отец. - М., 1979, с. 217.].
1.Изображение военной жизни в раннем творчестве Куприна.
На подступах к "Кадетам".
Изображая военную среду, Куприн открывал перед читателями малоисследованную литературой область русской жизни. Российское мещанство подвергли суровой критике великие современники Куприна - Чехов и Горький. Но Куприным впервые с таким художественным мастерством и так детально показана офицерская, по своей сущности также мещанская, среда.
"В этом мирке особенности российского мещанства выступали в концентрированном виде. Ни в каких других слоях мещанской Руси не было, пожалуй, столь кричащего противоречия между духовной нищетой и надутым кастовым высокомерием людей, мнящих себя "солью земли". И, что очень важно, вряд ли где-нибудь существовала такая пропасть между интеллигентами и людьми из народа. И нужно было очень хорошо знать все закоулки армейской жизни, побывать во всех кругах ада царской казармы, чтобы создать широкое и достоверное изображение царской армии". [Волков А.А. Творчество А.И. Куприна. Изд. 2-е. - М., 1981, с. 28.]
Уже среди ранних купринских рассказов есть немало таких, которые покоряют нас своей художественной достоверностью. Это произведения из хорошо знакомой ему военной жизни, и в первую очередь рассказ "Дознание" (1984), в котором Куприн предстал продолжателем традиций военно-художественной прозы Л. Толстого и В. Гаршина, бытописателем казарменной солдатской жизни, обличителем царской военщины, палочной дисциплины в армии. В отличие от своих предшественников, изображавших человека на поле брани, в сражениях, в "крови и страданиях" войны, Куприн показал солдата "мирной" армейской повседневности, достаточно жестокой и бесчеловечной. В сущности, именно он один из первых заговорил о бесправном положении русского солдата, жестоко истязаемого за самую ничтожную повинность. Описанная в "Дознании" сцена экзекуции над рядовым Байгузиным предвосхитила аналогичный эпизод истязаний солдата в более позднем толстовском "После бала". Гуманизм писателя выразился в глубоко сочувственном изображении жертв произвола, в переживаниях и мыслях подпоручика Козловского, персонажа во многом автобиографического.
Едва добившись признания от Байгузина, Козловский уже сожалеет об этом. Он чувствует личную ответственность за то, что произойдет с татарином. Он тщетно пытается добиться смягчения наказания. Предстоящая жестокая и унизительная порка солдата не дает ему покоя. Когда в приговоре упоминают его фамилию, Козловскому кажется, что все с осуждением смотрят на него. А после порки его глаза встречаются с глазами Байгузина, и он вновь чувствует какую-то странную душевную связь, возникшую между ним и солдатом.
В рассказе выступает ряд персонажей, типичных для царской казармы. Очень живописен образ фельдфебеля Тараса Гавриловича Остапчука. В образе Остапчука воплощены черты унтер-офицеров, являющихся своего рода "средостением" между "господами офицерами" и "нижними чинами".
Мышление фельдфебеля, его манера разговаривать, держать себя, его лексикон ярко характеризуют тип опытного служаки, хитроватого и ограниченного. В каждом его слове, в каждом поступке отражается немудреная психология надсмотрщика, грозного с подчиненными и выслуживающегося перед начальством.
Фельдфебель любит после вечерней переклички, сидя перед палаткой, попить чайку с молоком и горячей булкой. Он "беседует" с вольноопределяющимися о политике и несогласных с его мнением назначает на внеочередное дежурство.
Остапчук, как это свойственно людям невежественным, любит поговорить "о высоких материях" с человеком образованным. Но "отвлеченный разговор с офицером - это вольность, которую фельдфебель может себе позволить лишь с молодым офицером, в котором он сразу же разглядел интеллигента, еще не научившегося приказывать и презирать "нижних чинов".
В образе Остапчука писатель дает свой первый набросок очень характерного для царской армии типа. На фельдфебеля ротный командир перелагает все хозяйственные заботы. Фельдфебель - "гроза" солдат и фактически хозяин подразделения. По отношению к офицерам он слуга. По отношению к солдатам он хозяин, и здесь выявляются воспитанные режимом и палочной дисциплиной черты надсмотрщика. В этом своем качестве Остапчук резко противостоит человечному и размышляющему Козловскому.
Темы и образы, намеченные в "Дознании", найдут свою дальнейшую художественную разработку в других произведениях Куприна из военной жизни, созданных между 1895 и 1901 годами, - "Прапорщик армейский", "Куст сирени", "Ночлег", "Брегет", "Ночная смена".
Лучшим средством поднятия боеспособности армии Куприн считал установление взаимопонимания и доверия между офицерами и солдатами. Прапорщик Лапшин (повесть "Прапорщик армейский", 1897) записывает в своем дневнике, что во время полевых работ между офицерами и солдатами как бы ослабевает "иерархическая разница", "и тут-то поневоле знакомишься с русским солдатом, с его меткими взглядами на всевозможные явления, даже на такие сложные, как корпусной маневр - с его практичностью, с его умением всюду и ко всему приспособляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью". Это говорит о том, что русского человека даже в каторжных условиях царской казармы не покидает природный юмор, умение метко характеризовать явления жизни, а в других случаях пытливо, почти "философски" оценивать их.
Эта мысль еще отчетливей выражена в рассказе "Ночная смена" (1899). Здесь перед читателями проходит вереница точно и живописно очерченных деревенских типов, "отшлифованных" царской казармой.
Вчерашний крестьянин, рядовой Лука Меркулов всей душою рвется в деревню, потому что в казарме ему хоть пропадай: "Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает, отделенный ругает, - иной раз и кулаком ткнет в зубы, - ученье тяжелое, трудное..." Особенно тяжко приходится солдатам из числа так называемых инородцев. Татарин Камафутдинов, например, не понимает многих русских слов, и за это на "уроках словесности" его грубо отчитывает взбешенный унтер-офицер: "Идиот турецкий! Морда! Что я тебя спрашиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю... Говори, как твое ружье называется, скотина казанская!". За оскорблением неизбежно зуботычина, мордобой. Так каждый день, из года в год.
Это - в казарме. А на тактических учениях - то же самое, как и показано в рассказе "Поход" (1901). Утомленные, исхудалые, отупевшие от муштры и надрывающиеся под непосильной ношей, люди в серых шинелях устало и беспорядочно бредут в угрюмом и тревожном молчании, в кромешной тьме ночи, поливаемые нудным осенним дождем. Их пробует расшевелить своим шутками старый солдат Веденяпин, неистощимый весельчак и острослов. Но людям не до веселья... В темноте кто-то из рядовых, должно быть, в полусне, напоролся глазом на штык впереди идущего - слышится надсадный голос раненого: Дюже больно, ваше высокородие, не можно вытерпеть...". И ответ: "Чего же ты лез на штык, идиот?" - это кричит ротный Скибин, у которого для солдат в запасе всегда целый набор скверных ругательств: "подлец", "дурак", "идиот", "ротозей" и т.п. Поручик Тушковский, услужливо заискивающий перед Скибиным, словно состязается с ним в равнодушной жестокости и презрении к солдатам; они для него - "скоты", "сволочь". За начальством тянется злой и тупой фельдфебель Грегораш, с языка которого срываются словечки: "каналья", "прохвосты". Эти трое убеждены: солдат следует бранить, держать в страхе, бить по зубам, полосовать их спины. "А по-моему, бить их подлецов нужно!..." - мстительно говорит Скибин, и Тушковский угодливо соглашается с ним.
Авторская позиция в рассказе "Поход" явственно ощутима в мыслях и переживаниях поручика Яхонтова. Подобно Козловскому из "Дознания", Яхонтов предельно искренен в своем сострадании к солдату, в уважении и любви к нему. Он возмущается хамским поведением Скибина и Тушковского: он решительно против мордобоя, против истязаний солдат, против грубого, бесчеловечного обращения с ними. Он - человек, безусловно, добрый, чуткий, гуманный. Однако - что может сделать он один, если глумление и издевательства давно стали в царской армии чуть ли не узаконенной формой обращения офицерства с подчиненными? Практически - ничего. И это сознание собственного бессилия перед царящим в армии злом причиняет ему почти физическую боль, рождает щемящее чувство тоски и одиночества, близкое к отчаянию. Для честного офицера, как и для замордованного солдата, военная служба хуже каторги. Эти же чувства остро переживает Лапшин в "Прапорщике армейском", а позднее - Ромашов и Назанский в "Поединке"; подобными настроениями охвачены очень многие герои Куприна. Вообще тема солдатчины, казарменного армейского быта, начатая в "Дознании" и художественно разработанная писателем с позиций последовательного гуманистического и демократического мировоззрения, станет одной из ведущих в творчестве Куприна.
Автобиографическая повесть "На переломе" ("Кадеты").
О казарменном быте и муштре рассказал Куприн и в автобиографической повести "На переломе" ("Кадеты"), появившейся в 1900 году и впервые напечатанной в номерах киевской газеты "Жизнь и искусство" под названием "На первых порах" с подзаголовком: "Очерки военно-гимназического быта". Под названием "Кадеты" повесть была напечатана в 1906 году в журнале "Нива" (9-30 декабря, №№49-52). В расширенной редакции под названием "На переломе" ("Кадеты") вошла в пятый том собрания сочинений Куприна в "Московском книгоиздательстве" (1908).
В газете и журнале повесть была снабжена подстрочными примечаниями автора: "Вся гимназия делилась на три возраста: младший - I, II классы, средний -III IV V и старший -VI VII; "Курило" - так назывался воспитанник, уже умеющий при курении затягиваться и держащий при себе собственный табак". [Куприн А.И. Собр. соч. в 9 т. - М., 1971, т.3, с 466].
И хотя речь в повести идет не о солдатах, а о воспитании будущих офицеров царской армии, суть остается все той же. Военно-гимназический быт воспитывал в кадетах в течение семи лет дикие, "бурсацкие" нравы, а унылая казарменная обстановка, постылая учеба, бездарные учителя, жестокие, тупые надзиратели, невежественные воспитатели, грубое, несправедливое гимназическое начальство - все это коверкало душу мальчиков, на всю жизнь нравственно их уродовало. Военная гимназия жила по написанному жизненному правилу: прав тот, у кого сила. Воспитатели и учителя больно хлестали линейками или розгами, а великовозрастные кадеты, сильные, наглые и жестокие, вроде отпетых Грузова, Балкашина или Мячкова, измывались над слабыми и робкими, которые втайне надеялись со временем перейти в категорию сильных.
Вот как встречает военная гимназия главного героя, новичка Буланина (автобиографических образ самого автора):
Фамилия?
Что? - спросил робко Буланин.
Дурак, как твоя фамилия?
Бу... Буланин...
А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия какая... лошадиная.
Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:
А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?
Н... нет... не пробовал.
Как? Ни разу не пробовал?
Ни разу...
Вот так штука! Хочешь я тебя угощу?
И не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.
Вот тебе маслянка, и другая, и третья!...Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?
Старички радостно гоготали: "Уж этот Грузов! Отчаянный!... Здорово новичка маслянками накормил".
Всеобщий "культ кулака" очень ярко разделил всю гимнастическую среду на "угнетателей" и "угнетенных". Над слабейшими можно было не только "форсить", но можно было и "забываться", и Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями.
"Форсила" редко бил новичка по злобе или ради вымогательства и еще реже отнимал у него что-нибудь, но трепет и замешательство малыша доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества.
Гораздо страшнее для первоклассника были "забывалы". Их насчитывалось меньше, чем первых, но вреда они приносили гораздо больше. "Забывала" изводя новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как "форсила", а сознательно, из мести, или корыстолюбия, или другого личного мотива, с искаженной от злости физиономией, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы "выжать" из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятанные где-нибудь в укромном уголке.
Шутки забывалы носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носа. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам страдающим каким-нибудь физическим пороком: заикам, косоглазым, кривоногим и т.п. Дразня их, забывалы проявляли самую неистощимую изобретательность.
Но и забывалы были ангелами в сравнении с "отчаянными", этим бичом божьим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самым последним малышом.
Вся жизнь в кадетском корпусе как бы вращается в некоем заколдованном кругу, о котором говорит в повести Куприн: "...Дикие люди, выросшие под розгой, в свою очередь розгой же, употреблявшейся в ужасающем количестве, подготовляли других диких людей к наилучшему служению отечеству, а это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных...".
Естественно, что из военных гимназий выходили будущие истязатели солдат, насильники и садисты, циники и невежды, которыми так густо заселена повесть "Поединок".
Связь между этой ранней повестью Куприна и его "Поединком" очевидна. "Кадеты" являются как бы первым звеном трилогии Куприна ("Кадеты", "Юнкера", "Поединок"). Именно из таких кадетских корпусов выходили те армейские бурбоны, с их некультурностью, грубостью, кастовым высокомерием и оторванностью от жизни народа, которых писатель изобразил в "Поединке". Не лишено любопытства проследить, откуда происходят герои его "Поединка", каковы их школьные годы, - писал о "Кадетах" критик А. Измайлов ["Биржевые ведомости", 1907, 24 января, № 9711.]
Интересное упоминание о 2-м Московском кадетском корпусе и о пребывании в нем Куприна мы находили в воспоминаниях Л.А. Лимонтова об А.Н. Скрябине (будущий композитор учился здесь одновременно с Куприным).
"Я был тогда, - пишет Лимонтов, - "таким же "закалой", грубым и диким, как и все мои товарищи, кадеты. Сила и ловкость были нагим идеалом. Первый силач в роте, в классе, в отделении - пользовался всевозможными привилегиями: первая прибавка "второго" за обедом, лишнее "третье", даже стакан молока, назначенный врачом "слабосильному" кадету, нередко передавался первому силачу. Про нашего первого силача, Гришу Калмыкова, другой наш товарищ, А.И. Куприн, будущий писатель, а в ту пору невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик, сочинил:
Наш Калмыков, в науках скромный,
Был атлетически сложен,
Как удивительный - огромный
И сногсшибательный Парчен.1
Он глуп, как Жданов первой роты,
Силен и ловок, как Танти.2
Везде во всем имеет льготы
И всюду может он пройти"
При первой публикации в газете повесть не была замечена критикой. Когда же она появилась в 1906 году в "Ниве", то вызвала резкие критические отзывы военной прессы. Критик военно-литературного журнала "Разведчик" Росс в фельетоне "Прогулки по садам российской словесности писал: "Возьмите картину лучшего художника, лишите ее всех светлых тонов - и вы получите произведение во в вкусе беллетристов новейшей формации, - беллетристов "левых", берущихся за изображение военной жизни в разных ее проявлениях. Это приходится по вкусу читателям известного рода, но куда же отходит художественная правда? Увы ей нет места; она заменяется тенденцией. В наше время тенденция эта такова, что все военное дело должно быть обругано, если и не прямо, то хоть иносказательно... По Куприну, кадетский корпус недалеко ушел от блаженной памяти бурсы, а кадеты - от бурсаков...
И ведь что удивительно! Талант автора - несомненен. Рисуемые им картины - жизненны и правдивы! Но ради бога! Зачем же говорить только о дурном, исключительно о гадостях, подчеркивая и выделяя их! ["Разведчик", - СПб., 1907, 24 июля, №874.]
В тексте "Жизни и искусства" в повести было шесть глав; заканчивалась шестая глава словами: "Говорят, что в теперешних корпусах нравы смягчились, но смягчились в ущерб, хотя и дикому, но все-таки товарищескому духу. Насколько это хорошо или дурно - господь ведает".
В "Ниве" и последующих перепечатках автор дает другую концовку шестой главы: "Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная, родственная связь. Так это или не так - это покажет будущее. Настоящее ничего не показало".
Творческая история создания романа "Юнкера".
Замысел романа "Юнкера" возник у Куприна еще в 1911 году, как продолжение повести "На переломе" ("Кадеты") и тогда же анонсирован журналом "Родина". Работа над "Юнкерами" продолжалась в течение всех предреволюционных лет. В мае 1916 года в газете "Вечерние известия" было помещено интервью Куприна, рассказавшего о своих творческих планах: "... с охотой я принялся за окончание "Юнкеров", - сообщал писатель, - повесть эта представляет собой отчасти продолжение моей же повести "На переломе" "Кадеты". Здесь я весь во власти образов и воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною и внутреннюю жизнью, с тихой радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими "симпатиями". Вспоминаю юнкерские годы, традиции нашей военной школы, типы воспитателей и учителей. И помнится много хорошего... Надеюсь, что осенью текущего года выпущу эту повесть в свет". [Петров М., У А.И. Куприна, "Вечерние известия", 1916, 3 мая, №973.]
"Революционные события в России и последовавшая затем эмиграция прервали работу писателя над романом. Только в 1928 году, за пять лет до издания романа отдельной книгой, в газете "Возрождения" появляются отдельные его главы: 4 января - "Дрозд", 19 февраля - "Фотоген Павлыч", 8 апреля - "Полонез", 6 мая - "Вальс", 12 августа - "Ссора", 19 августа - "Письмо любовное", 26 августа - "Торжество".
Как видно, писатель начал с середины романа, постепенно возвращаясь от описания училища и любви Александрова и Зины Белышевой к исходной точке: окончанию кадетского корпуса, увлечению Юлией Синельниковой и т.д. Эти главы были напечатаны в "Возрождении" двумя годами позже: 23 февраля 1930 года - "Отец Михаил", 23 марта - "Прощание", 27 и 28 апреля - "Юлия", 25 мая - "Беспокойный день", 22 июня - "Фараон"", 13 и 14 июля "Танталовы муки", 27 июля - "Под знамя!", 28 сентября, 12 и 13 октября - "Господин писатель". Последняя глава романа "Производство", была напечатана 9 октября 1932 года. [Куприн А.И. Собр. соч. в 5 т., - М., 1982, т. 5, с. 450.]
Отдельным изданием роман вышел в 1933 году.
В романе "Юнкера" изображены реальные лица и действительные факты. Так, в романе упоминаются "времена генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век". Шванебах Борис Антонович был первым начальником Александровского училища - с 1863 по 1874 год. Генерал Самохвалов, начальник училища, или, по-юнкерски, "Епишка" командовал александровцами с 1874 по 1886 год. Начальник, которого застал Куприн, генерал-лейтенант Анчутин, прозванный "статуей командора"; батальонный командир "Берди-Паша" - полковник Артабалевский; командир роты "жеребцов его величества" "Хухрик" - капитан Алкалаев-Калагеоргий; командир роты "зверей" - капитан Клоченко; командир роты "мазочек" - капитан Ходнев, - все они выведены в романе под своими именами. В книге, Александровское военное училище за 35 лет упоминаются и доктор богословия, протоирей Александр Иванович Иванцов-Платонов, и действительный статский советник Владимир Петрович Шереметевский, преподававшей юнкерам русский язык с 1880 по 1895 год, и капельмейстер Федор Федорович Крейнбринг, бессменно руководивший оркестром с 1863 года, и учителя фехтования Тарас Петрович Тарасов и Александр Иванович Постников.
В списке юнкеров, окончивших училище 10 января 1890 года, рядом с Куприным мы найдем имена его приятелей - Владимира Венсана, Прибиля и Жданова, Рихтера, Корганова, Бутынского и других.
Начал свое большое автобиографическое произведение Куприн с исследования тех чувств и впечатлений, которые неприкосновенно хранились в глубоких тайниках его души. Радостное и непосредственное восприятие жизни, восторги быстротечной влюбленности, наивной юношеской мечты о счастье - это свято и свежо сохранил писатель, и с этого он начал роман о юношеских годах своей жизни.
Общая черта произведений Куприна, написанных в эмиграции, - идеализация старой России. "Начало романа, где описываются последние дни пребывания в корпусе кадета Александрова (в повести "На переломе" - Буланина), в несколько смягченном тоне, но все же продолжает критическую линию повести "На переломе". Однако сила этой инерции очень быстро истощается, и наряду с интересными и верными описаниями жизни училища все чаще звучат хвалебные характеристики, слагаясь постепенно в ура-патриотическое воспевание юнкерского училища". [Волков А.А., с. 340-341.]
За исключением лучших глав романа, где описывается юная любовь Александрова к Зине Белышевой, пафос восхваления педагогических принципов и нравов Александровского училища объединяет отдельные эпизоды жизни, как ранее в повестях "На переломе" и "Поединок" их объединял пафос обличения общественных порядков и методов воспитания подрастающего поколения.
"Отцу хотелось забыться, - рассказывает дочь писателя Ксения Куприна, - и поэтому он взялся писать "Юнкеров". Ему хотелось сочинить нечто похожее на сказку". [Жегалов Н., Выдающийся русский реалист. - "Что читать", 1958, №12, с. 27.]
4. Особенности изображения армейской жизни в романе "Юнкера".
В романе "Юнкера" чувствуется авторское любование праздничной, светлой и легкой жизнью беззаботных и по-своему счастливых, довольных людей, восхищенное умиление изысканной "светскостью" юнкера Александрова, его ловкостью, изяществом движений в танце, умением владеть всеми мускулами своего сильного молодого тела.
Вообще физическому развитию и созреванию юнкеров в романе отведено такое же значительное место, как и их интимно-любовным переживаниям. В Александрове все время подчеркивается сильный и ловкий спортсмен, отличный и неутомимый танцор и превосходный образцовый строевик. О своем герое Куприн говорит: "Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела".
Как же выглядит в романе эта "военная жизнь", которой наслаждался Александров? Каковы будни воспитанников юнкерского училища? В какой мере правдиво рассказал об этом Куприн?
Известный исследователь творчества Куприна Федор Иванович Кулешов считает: "Несомненно, что реальная русская действительность периода реакции восьмидесятых годов, к которым относится повествование, давала писателю обильный материал для критического освещения быта и нравов, царивших в военных учебных заведениях. И будь роман написан в эпоху "буйных и мятежных" настроений Куприна, вероятно мы имели бы произведение такой же обличительной силы, как и повесть "Поединок". Сейчас этого нельзя сказать о "Юнкерах: люди время показаны здесь по иным углом зрения, чем в поединке и "Кадетах". Не то, чтобы в Юнкерах вовсе отсутствовали обличительные оценки и критика, - они там есть, но и то и другое значительно ослаблено, смягчено". [Кулешов Ф.Н. Творческий путь А.И. Куприна, 1907-1938. 2-е изд., - Минск, 1987, с. 238.]
Рассказ о внутреннем режиме в военном училище ведется в романе таким образом, что, едва коснувшись теневых сторон юнкерского быта, о которых говорится в общих выражениях, автор вслед за тем, нередко в противоречии с фактами и с самим собою, спешит выдвинуть те или другие извиняющие обстоятельства.
Так, из главы "Танталовы муки" с несомненностью можно заключить, что юнкера первого курса - "бедные желторотые фараоны" - подвергались в училище многим часам "беспрестанной прозаической строжайшей муштры": юнкеров изо дня в день дрессировали, учили строевому маршу с ружьем и со скатанной шинелью, ружейным приемам, натаскивали в "тонком искусстве отдания чести", а за мелкую провинность сажали в карцер, лишали домашних отпусков, "грели" беспощадно. И в реальной жизни все это было в порядке вещей, что подтверждает биография Куприна периода его пребывания в юнкерском училище. [Михайлов О.Н. Куприн, ЖЗЛ, - М., 1981, с. 25-28.]
И жизнь Алексея Александрова, как и других юнкеров, по признанию автора романа, состояла из дней воистину "учетверенного нагревания": их "грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер", сильно досаждал ротный Дрозд, который был главным "разогревателем". Романист говорит, что у юнкеров каждый день был "сплошь туго загроможден" воинскими обязанностями и учением, и свободными для души и тела оставались "лишь два часа в сутки", в течение которых "юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах училищного здания. Лишь в эти два послеобеденных часа можно было петь, болтать или читать и "даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки". А потом снова начинались занятия - "зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров". Если, как сказано в романе, Александров, никогда потом "не забывал своих первых жутких впечатлений", то это, очевидно, не от сладкой и спокойной жизни. Невольно признавая ее, Куприн говорит о своем герое: "Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштра, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства - все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной".
Если "черных дней" было у юнкеров "гораздо больше, чем светлых", то не естественнее ли было бы сохранить в романе реальные пропорции? Куприн поступил не так. Выделяя парадную сторону юнкерского быта, он предпочел говорить больше о светлых днях, чем о черных. Тяжела и непривлекательна военная служба? Но ведь это только с непривычки и на очень короткое время, после которого "бесследно отходит" в небытие "вся трудность воинских упражнений и военного строя". И Александров по воле автора быстро почувствовал, что "ружье не тяжелит", что у него легко выработался "большой и крепкий шаг", и в душе появилось "гордое сознание: я - юнкер славного Александровского училища". Да и всем юнкерам, если верить Куприну, живется в общем "весело и свободно". Строевая служба, доведенная "до блестящего совершенства", превратилась для них в увлекательное искусство, которое "граничит со спортивным соревнованием" и не утомляет юнкеров". Может, такое "искусство" все-таки чрезмерно тяжело, и, во всяком случае, однообразно и скучно? Оказывается, нет. То есть, оно и однообразно, и скучно, но его однообразие лишь "чуть-чуть прискучивает", а вообще-то "весело и свободно", потому что "домашние парады с музыкой в Манеже на Моховой "вносят и сюда некоторое разнообразие".
Так почти за каждым критическим замечанием тотчас следует фраза из осторожно подобранных слов, призванных смягчить, нейтрализовать сколько-нибудь неблагоприятное читательское впечатление от рассказа о режиме в училище. Вместо резкого и определенного слова "тяжело" - Куприн очень часто употребляет безобидное "тяжеловато". Например, после зимних каникул, когда юнкера были "безгранично свободны", им "тяжеловато снова втягиваться в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел и мыслей". Можно ли перечисленное здесь охарактеризовать неопределенным словом "тяжеловато"? Или вот еще. В тесных спальнях училища юнкерам "по ночам тяжеловато было дышать". Днем тут же приходилось учить лекции и делать чертежи, сидя в очень неудобной позе - "боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежала обувь и туалетные принадлежности". А вслед за этими словами идет бодрое авторское восклицание: Но-пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал...".
Куприн нарисовал розовую картину взаимоотношений юнкеров и училищного начальства. Эти отношения были ровными, спокойными, они по давней традиции утверждались "на правдивости и широком взаимном доверии". Начальство не выделяло среди юнкеров ни любимчиков, ни постылых, офицеры были "незаметно терпеливы" и "сурово участливы". Имелись ли в училище бурбоны и гонители? Куприн этого не отрицает. Он пишет: "Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания". Среди "случавшихся гонителей назван батальонный командир Берди-Паша, которого словно бы "отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека". Берди-Паша не знает "ни жалости, ни любви, ни привязанности", он только "спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти". Мелким и придирчивым был и офицер Дубышкин, чрезмерно честолюбивый, вспыльчивый и злой, "несчастный смешной человек", предмет насмешек со стороны юнкеров. С явной антипатией показан еще капитан Хухрик - командир первой роты Алкалаев-Калагеоргий.
Но эти трое "гонителей", которых юнкера терпели, "как божью кару", не были типичными представителями начальства. Характерной фигурой уличного офицера Куприн считает капитана Фофанова (или Дрозда). Именно он, Дрозд, внешностью своей и грубовато-образной речью напоминающий капитана сливу из "Поединка", был любимым командиром и умелым воспитателем юнкеров. То мгновенно вспыльчивый, то невозмутимо спокойный и "умнозаботливый", всегда прямой, честный и нередко великодушный, он воспитывал своих птенцов "в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия". Он умел быть и строгим, не оскорбляя личности воспитанника, и одновременно мягким и по-товарищески простым. Такими были почти все офицеры, и ни один из них никогда "не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом". Даже генерал Самохвалов - прежний начальник училища, который имел обыкновение "с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью" обращаться с подчиненными офицерами, осыпая их "беспощадными ругательствами", даже он неизменно благоволил к "своим возлюбленным юнкерам", давал им поблажи, отечески опекал и защищал.
Куприн упоминает и штатских преподавателей, и воспитателей военного училища. Учиться юнкерам было "совсем не так трудно", потому что в училище преподавали профессора "самые лучшие, какие только есть в Москве". Среди них, конечно, нет ни одного невежды, пьяницы или жестокого истязателя, подобно тем, с которыми мы знакомы по повести "Кадеты". Очевидно, они все-таки были и в Александровском и в других юнкерских училищах, но изменившийся взгляд писателя на прошлое подсказал ему необходимость изображать их иначе, чем он это делал раньше, в своем дореволюционном творчестве.
Припомним одну частность. В "Кадетах" Куприн в остро обличительном освещении представил фигуру попа Пещерского, ненавидимого кадетами за лицемерие, елейность, несправедливое обращение с воспитанниками за его "тоненький, гнусавый и дребезжащий" голосок, за косноязычие на уроках закона божьего. Пещерскому в повести "Кадеты" противопоставлен настоятель гимназической церкви отец Михаил, но последнему там отведено буквально шесть строк. Работая над "Юнкерами" Куприн не только вспомнил вот этого "отца Михаила", но охотно ввел его в роман и очень подробно, с нескрываемым умилением рассказал о нем в первых двух главах. Из памяти "выветрился" тот Пещерский, но крепко укоренился в ней благообразный старичок в рясе - "маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника".
На всю жизнь герой "юнкеров" запомнил и "домашний подрясничек" на тощеньком священнике, и его епитрахиль, от которой "так уютно пахло воском и теплым ладаном", и его "кроткие и терпеливые наставления" воспитанникам, его мягкий голос и мягкий смех. В романе рассказывается о том, что через четырнадцать лет - "во дни тяжелой душевной тревоги" - Александрова неодолимо потянуло на исповедь к этому мудрому старцу. Когда навстречу Александрову поднялся старичок "в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый", то Александров с радостью отметил у него "милую, давно знакомую привычку" щурить глаза, увидел все то же "необыкновенно милое" лицо и ласковую улыбку, услышал сердечный голос, так что при расставании Александров не выдержал и "поцеловал сухонькую маленькую косточку", после чего "душа его умякла". Ф.И. Кулешов так оценивает эту сцену: "Все это выглядит в романе трогательно-умилительно, идиллично и, в сущности, приторно-слащаво. Не верится, чтобы у строптивого, непокорного Александрова так "умякла душа", - она очевидно, "умякла" у стареющего писателя, ставшего немного сентиментальным на склоне лет. Кулешов Ф.И., с.242.
Четыреста воспитанников военного училища выглядят в романе Куприна единым, спаянным коллективом довольных, жизнерадостных юношей. В их обращении друг с другом нет злобы и зависти, придирчивости, неприязни, желания оскорбить и обидеть. Юнкера очень вежливы, предупредительно-корректны: Жданов не похож на Бутынского, а Венсан своими индивидуальными чертами резко отличается от Александрова. Но, - если верить автору, - "выгибы их характеров были так расположены, что в союзе приходилось друг к другу ладно, не болтаясь и не нажимая". В училище нет того господства сильного над слабым, которое в действительности испокон веков царило в заведениях закрытого типа и о котором сам же Куприн рассказал в повести "Кадеты". Юнкера-старшекурсники с необычайной чуткостью и человечностью относятся к новичкам - "фараонам". Они приняли на сей счет "мудрое словесное постановление" направленное против возможного "цуканья" на первокурсников: "... пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко". Все юнкера ревниво оберегают "прекрасную репутацию" своего училища и стремятся не запятнать ее "ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей".
Устранено не только возрастное неравенство юнкеров, но стерты и социальные различия, рознь и неравенство. Нет антагонизма между юнкерами из богатых и бедных семей. Никому из юнкеров не приходило в голову, скажем, поиронизировать над сокурсником незнатного происхождения, и уж вовсе никто не позволял себе глумления над теми, чьи родители материально несостоятельны, бедны. "Случаи подобного издевательства, - сказано в романе, были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, под каким-то загадочным влиянием; жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества".
В чем выражался этот своеобразный "патриотизм" юнкеров? Прежде всего, в юношеской тщеславной гордости за свое славное училище, в котором они имели "высокую честь" воспитываться и служить, считая его самым лучшим не только в России, но и "первым военным училищем в мире". Здесь зарождались ростки сознания своего привилегированного положения в обществе и мнимого превосходства над людьми иной социальной принадлежности, культивировались кастовые предрассудки будущего офицерства. Примечательно, что александровцы, гордые своим военным мундиром, всех без исключения штатских называли "шпаками", и отношение их к этой категории людей "с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное". Впрочем, это хорошо известно по "Поединку". Разница, однако, в том, что прежде, в эпоху "Поединка", такое высокомерие "господ офицеров" в отношении к штатским рождало в писателе гнев и протест, вызывало его безоговорочное суждение: теперь же Куприн говорит о презрении юнкеров к "шпакам" с незлобивой улыбкой как о безвредном, невинном чудачестве будущих офицеров.
Юнкерам не чужда и иного рода тщеславная гордость - гордость своими предками. Александровцы гордятся "прославленными предками потому, что многие из них в свое время "легли на поле брани за веру, царя и отечество". Этот "гордый патриотизм" юнкеров был именно выражением их готовности в будущем отдать свою жизнь "за веру, царя и отечество". Ведь недаром же они, если судить по роману, так боготворят русского царя.
Любопытна в этом отношении глава "Торжество". Вся она сплошь выдержана в радужно-ярких тонах, призванных оттенить верноподданнический восторг юнкеров накануне и во время царского смотра воинских частей Москвы. Куприн пишет: "Воображению Александрова "царь" рисуется золотым, в готической короне, "государь" - ярко-синим с серебром, "император" - черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном". Это - в воображении юнкера. Стоило вдали показаться рослой фигуре царя, как душу Александрова охватил "сладкий острый восторг" и вихрем понес ее ввысь. Царь представился ему исполином "нечеловеческой мощи". Вид царя рождает в душе восторженного юнкера "жажду беспредельного жертвенного подвига" во славу "обожаемого монарха".
Ф.И. Кулешов считает: "Субъективные переживания и возбужденные мысли восемнадцатилетнего юнкера говорят о наивном монархизме воспитанников военного училища, боготворящих особу царя. Кстати заметить: здесь герой романа - образ автобиографический - в этом месте повествования не похож на автора: Куприн наделил тут Александрова эмоциями, чуждыми ему самому в годы юнкерства или, во всяком случае, испытанными им тогда в несравненно более слабой степени. На юнкера Куприна не произвел сколько-нибудь глубокого впечатления приезд царя в Москву в октябре 1888 года, подробно описанный в романе. Вот почему Куприн не написал тогда, в своей ранней молодости, ни единой стихотворной строчки о царском смотре юнкеров, хотя он откликнулся стихами на другие важные и даже незначительные моменты своей юнкерской жизни. Более того: за полтора года до этого события он в стихотворении "Сны" сочувственно изобразил казнь тех, кто пытался убить царя. Автор романа еще в кадетском корпусе расстался с пиететом царя, а теперешний герой юнкер Александров, напротив, видит в царе "великую святыню". [Кулешов Ф.И., с. 245.]
Александров не задумывался над тем, насколько правильными были тот строй чувств и то направление мыслей, которые прививались ему и его товарищам по училищу. Вопросы политики, общественная жизнь, социальные проблемы, все то, что происходило за толстыми стенами военного училища и чем жили народ и страна, не волнуют героя "Юнкеров", не интересуют его. Только раз в жизни он невзначай - именно невзначай! - соприкоснулся с людьми совсем иного мира. Однажды, во время какого-то студенческого бунта, он проходил в колонне юнкеров мимом университета и вдруг увидел "бледного, изношенного студента, который гневно кричал из-за железной университетской ограды: "Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душители свободы! Позор вам! Позор!"
Неизвестно, как реагировал каждый из юнкеров на страстные выкрики студента в их адрес. Но много месяцев спустя, припоминая эту сцену, Александров попытался мысленно опровергнуть слова "студентешки": "Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовность пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие это великие, простые и трогательные слова!"
В "Юнкерах" действуют преимущественно такие люди, у которых как бы приглушены или атрофированы социальные эмоции: чувства негодования, возмущения, протеста. Пока герои "Юнкеров" были кадетами, они еще способны были на какую-то борьбу и даже бунт. Александрову, например, памятен случай, когда в четвертом кадетском корпусе вспыхнуло "злое" массовое восстание, вызванное плохим питанием и "нажимом начальства": тогда кадеты разбили "все лампы и стекла, штыками расковыряли двери и рамы, растерзали на куски библиотечные книги". Бунт прекратился только после того, как были вызваны солдат. С "бунтовщиками" расправились строго. По этому поводу в романе высказано следующее авторское суждение: "И правда: с народом и мальчиками перекручивать нельзя", - нельзя доводить людей до возмущения и насилием толкать их на бунт. Повзрослев и остепенившись, юнкера уже не позволяют себе бунтовать, и устами Александрова осуждают "злое массовое восстание", для которого, как им кажется, нет поводов, нет основания.
Поверхностными и ошибочными были представления юнкеров о казарменном быте в царской армии. Александров по совести сознается, что он ничего не знает о "неведомом, непонятном существе", имя которому - солдат. "... Что я знаю о солдате, - спрашивает он себя и отвечает: господи боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня". И все- это от того, что юнкеров только учили командовать солдатом, но не сказали, чему учить солдата, кроме строя и ружейных приемов, совсем "не показали, как с ним разговаривать". И по выходе из училища Александров не будет знать, как обучать и воспитывать безграмотного солдата и как с ним общаться: "Как я к этому важному делу подойду, когда специальных военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и, однако, он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей". Ничего плохого, ненормального и тем более, возмутительного во взаимоотношениях между офицерами и солдатами он не видит, да и видеть не хочет. Перед отправкой в полк Александров заявляет: "Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка". Он еще готов допустить, что, может быть, встречаются "бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки", но и они все, конечно, "не ниже прославленной гвардии".
Странно: из чего Александров заключил, что в солдатах живется хорошо и что в России нет "ни одного порочного полка", если он ничего не знает об армии? Разгадка проста: тут, как и в некоторых других местах романа, Куприн приписал своему герою то, что временами сам думал о русской армии много лет спустя - в эмиграции. Куприн здесь вносит некоторые коррективы в свои прежние смелые суждения о царской военщине. в результате создается впечатление, что автор "Юнкеров" все время полемизирует с автором "Поединка", а в иных главах и с автором "Кадетов".
Когда определился такой "выправленный", изменившийся взгляд писателя на армейский и училищный быт?
Ф.И. Кулешов объясняет это так: "было бы неверно связывать эти изменения непосредственно с уходом Куприна в эмиграцию. Частичный отход писателя от "смелых и буйных" идей эпохи первой революции, некоторое ослабление критического духа, снижение обличительного пафоса - все это ощущалось уже в его творчестве периода реакции и империалистической войны. И уже тогда молодость писателя и годы юнкерства стала облекаться в его воображении в радужные краски. По мере удаления от времени рассказа все плохое блекло, уменьшалось в размере, и теперь писатель смотрит на него точно в перевернутый бинокль. В эмиграции он, очевидно, еще больше укрепился в мысли, что светлый взгляд на канувший в вечность вчерашний день является наиболее справедливым. Отдавшись волшебной власти воспоминаний, Куприн извлекал из "архива памяти" пестро расцвеченные эпизоды, картины, лица, факты, которые по закону психологической антитезы были так не похожи н его теперешнее тоскливое, одинокое, серое прозябание на чужбине". [Ф.И. Кулешов, с. 247.]
5. Вместо заключения. Армейские военные будни в рассказе
"Последние рыцари".
Взятый в "Юнкерах" повествовательный тон, полный умиления и грусти, резко изменился в другом "заграничном" произведении Куприна на военные темы - рассказе "Последние рыцари" (первоначально - "Драгунская молитва"). Писатель обратился к сравнительно близким по времени событиям эпохи империалистической войны, и голос его обрел суровость, суждения сделались резкими, характеры жизненными, а позиция автора четкой и недвусмысленной.
Одно из несомненных достоинств рассказа "Последние рыцари" - насыщенность событиями и стремительность их развития. Форма повествования предельно сжата, а между тем автор охватил значительные отрезки времени, сказал очень много об исторической эпохе и успел проследить почти всю жизнь главных героев. При кажущейся неторопливости и обстоятельности описаний повествование течет вольно, быстро и непринужденно, как в лучших рассказах этого писателя.
В "Последних рыцарях" Куприн окунулся в родную ему стихию армейских военных будней, но не для того, чтобы восторгаться ими, а для того, чтобы еще раз резко осудить карьеризм, тупоумие и бездарность генералитета и штабных царских офицеров. Полны негодующего пафоса саркастические слова о "великих стратегах генерального штаба, заседающих в Петрограде и никогда не видавших войну даже издали". Один из героев рассказа, взгляды которого всецело разделяет автор, возмущенно говорит: "Я еще в японскую войну громко настаивал на том, что нельзя руководить боями, сидя за тысячу верст в кабинете; что нелепо посылать на самые ответственные посты, по протекции, старых генералов, у которых песок сыплется и нет никакого военного опыта, что присутствие на войне особ императорской фамилии и самого государя ни к чему доброму не ведет".
Но именно они, бездарные и тупые люди - эти "великие стратеги генерального штаба" и особы императорской фамилии - фактически руководили армией во время русско-японской и германской войн, они разрабатывали кабинетные планы операций, на деле приводившие к поражению и позору, они были виновниками гибели тысяч храбрых солдат и офицеров, и они же "каркали, как вороны", когда инициативные боевые офицеры осмеливались проявлять самостоятельность, презрительно именуя последних "некомпетентными храбрецами". Такое "воронье карканье" раздалось в ответ на предложение талантливого и бесстрашного генерала Л. совершить смелый кавалерийский рейд в тыл немцев и добиться того, чтобы перенести войну на территорию Германии, - "сделав, таким образом, наше положение из оборонительного в наступательное, и взяв инициативу боев в свои руки, как, это делали великие русские победители в прошедшие века". Там, наверху, плохо знали истинное положение на фронтах и не умели координировать действия армии и воинских частей. По этой причине, рассказывает Куприн, так трагически и позорно закончился известный рейд армии генерала Ренненкомпфа в Восточную Пруссию в августе 1914 года: "Его не поддержали вовремя и его полет затормозили те же штабные карьеристы". Да и на других фронтах русская армия зачастую оказывалась битой только из-за тупости, бездеятельности, а иногда и прямого предательства штабных офицеров.
Штопать дыры, "наделанные правящим классом и подхалимством теоретиков", призваны были все новые и новые воинские подразделения. Никто не принимал в расчет жизнь солдат, которых безрассудно подставляли под огонь врага, обрекали на бессмысленную смерть. "Эти кабинетные колонновожатые, будущие русские Мольтке, - с сарказмом пишет Куприн, - любили щегольнуть фразой, говорящей о беспредельной суровости власти и о безграничности кровавых военных мер, способствующих достижению успеха... В их современную науку побеждать, входили страшные железные формулы и термины: "бросить в огонь дивизию", "заткнуть дефиле корпусом", "вялое наступление такой-то армии оживить своими же пулеметами и так далее". Куприна и положительных героев его рассказа глубоко возмущает невнимание военных властей к солдату, преступное безразличие к его личности, презрение к "боевым единицам", составляющим силу и мощь русской армии в целом. Те, кто руководил армией, часто говорили о "психологии масс" вообще, но по обыкновению совсем забывали психологию русского солдата, недооценивали "его несравненные боевые качества", признательность за хорошее обращение, его чуткую способность к инициативе, его изумительное терпение, его милость к побежденным.
В тех воинских частях, где ценят и уважают солдата, где "выветривались даже невинные подзатыльники", где твердо исполняют неписаное правило, согласно которому бить солдата, "нельзя даже в шутку и никогда нельзя гадко говорить о его матери", - там царит высокий боевой дух, там каждый солдат достоин восхищения. "И что за люди! - восхищенно говорит Куприн о солдатах одного полка, - Молодец к молодцу. Рослые, здоровые, веселые, ловкие, самоуверенные, белозубые..."
Это от того, что в том полку командир обращается с солдатом "без оранья глупого, без зобы и без злопамятства". Солдат в бою - "в деле" проявляет удивительную сообразительность, находчивость и смекалку, какую проявил, например, казачий урядник Копылов. В рассказе выражено твердое убеждение в том, что из массы мужиков-хлеборобов "можно вырастить и воспитывать армию, какой никогда не было и никогда не будет в мире".
На радушных и гуманных принципах держатся отношения к солдатам капитана Тулубеева и генерала Л., выведенных в рассказе положительными героями. Первый из них подкупает отсутствием тщеславных помыслов, простотой и скромностью, честностью и великодушием. Это он, капитан Тулубеев, отказался от завидного места в генеральном штабе и предпочел вернуться в свой полк. Он служил в армии по призванию, из любви к "стремительной профессии" кавалериста. Тулубеев нашел себе единомышленника в лице генерала Л., имя которого солдаты произносили "с корявым, суровым обожанием", потому что при всей своей строгости генерал был на редкость справедлив и отзывчив: он отличался глубоким "знанием военной науки, распорядительностью, находчивостью, представительностью и замечательным умением обращаться с солдатами".
Двум этим строевым командирам противостоит в рассказе "Молодой князе". Это особа императорской фамилии, "неудачный отпрыск великого дома", один из "юных великих князей, уже успевший прославиться в Питере кутежами, долгами, скандалами, дерзостью и красотой". Находясь в полку генерала Л. в чине младшего офицера, молодой "князенок" ведет себя самым "зазорным, позорным и непотребным образом. Генерал Л., человек очень прямой и независимый, не посчитался с "отпрыском" дома Романовых и строго наказал развязного "князенка". Правда, генералу Л. "крепко досталось" за это, но в глазах офицеров и солдат еще больше вырос его авторитет.
В таком освещении предстала царская военщина и русская армия в рассказе "Последние рыцари".
Сразу после появления в печати рассказ Куприна вызвал возмущенные нападки со стороны белой эмиграции. Куприна обвинили в том, что он оклеветал "победоносную русскую армию". Некто Георгий Шервуд в письме на имя редактора газеты "Возрождение назвал Купринский рассказ пасквилем и делал следующий вывод: "Последние рыцари" как нельзя более подходят к одной из советских газет, где и будут, несомненно, перепечатаны, но в "Возрождении" - в том органе эмигрантской печати, который мы привыкли считать выразителем здоровых и чистых государственных взглядов, - как можно было напечатать весь этот вымысел?". Белогвардейский офицер Шервуд счел необходимым через "Возрождение" обратиться с открытом письмом к автору "Последних рыцарей". Шервуд заключил, что "Последними рыцарями" Куприн перечеркнул роман "Юнкера" и другие свои произведения периода эмиграции и снова вернулся на путь обличения...
Список литературы.
"А.И. Куприн о литературе". - Минск, 1969
"Александр Иванович Скрябин. 1915-1940. Сборник к 25-летию со дня смерти. М.- Л., 1940.
Афанасьев В. А.И. Куприн. Изд. 2-е. - М., 1972.
Берков П.Н. А.И. Куприн. Критико-биографический очерк. - М., 1956.
Вержбицкий Н., Встречи с А.И. Куприным. - Пенза, 1961.
Волков А.А. Творчество А.И. Куприна. Изд. 2-е. М., 1981.
Жегалов Н., Выдающийся русский реалист. - "Что читать", 1958, № 12.
Киселев Б. Рассказы о Куприне. - М., 1964.
Козловский Ю.А. Александр Иванович Куприн. - В кн.: А.И. Куприн. Избранное. - М., 1990.
Корецкая И.В. А.И. Куприн. К 100-летию со дня рождения. - М.. 1970.
Крутикова Л.В. А.И. Куприн. - Л., 1071.
Крутикова Л.В. А.И. Куприн. - Л., 1971.
Куприн А.И. Собр. соч.: в 6 т., М., 1982.
Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т., М., 1970-1973.
Куприна-Иорданская М.К. Годы молодые. - М., 1966.
Лилин В. Александр Иванович Куприн. Биография писателя. - Л., 1975.
Фонякова Н.Н. Куприн в Петербурге. - Л., 1986.
Чуковский К.И. Куприн. - В книге: Корней Чуковский. Современники. Портреты и этюды. - М., 1963.
1 Повар - квасник в нашем корпусе. Очень большой и сильный мужчина. 2 Клоун в цирке Соломонского. [Сб. "Александр Иванович Скрябин. 1915-1940. Сборник к 25-летию со дня смерти", - М.-Л., 1940, с.24.] 1 2
Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками, графиками, приложениями и т.д., достаточно просто её СКАЧАТЬ.
В самом конце августа завершилось кадетское отрочество Алеши Александрова. Теперь он будет учиться в Третьем юнкерском имени императора Александра II пехотном училище.
Еще утром он нанес визит Синельниковым, но наедине с Юленькой ему удалось остаться не больше минуты, в течение которой вместо поцелуя ему было предложено забыть летние дачные глупости: оба они теперь стали большими.
Смутно было у него на душе, когда появился он в здании училища на Знаменке. Правда, льстило, что вот он уже и «фараон», как называли первокурсников «обер-офицеры» - те, кто был уже на втором курсе. Александровских юнкеров любили в Москве и гордились ими. Училище неизменно участвовало во всех торжественных церемониях. Алеша долго еще будет вспоминать пышную встречу Александра III осенью 1888 г., когда царская семья проследовала вдоль строя на расстоянии нескольких шагов и «фараон» вполне вкусил сладкий, острый восторг любви к монарху. Однако лишние дневальства, отмена отпуска, арест - все это сыпалось на головы юношей. Юнкеров любили, но в училище «грели» нещадно: грел дядька - однокурсник, взводный, курсовой офицер и, наконец, командир четвертой роты капитан Фофанов, носивший кличку Дрозд. Конечно, ежедневные упражнения с тяжелой пехотной берданкой и муштра могли бы вызвать отвращение к службе, если все разогреватели «фараона» не были бы столь терпеливы и сурово участливы.
Не существовало в училище и «цуканья» - помыкания младшими, обычного для петербургских училищ. Господствовала атмосфера рыцарской военной демократии, сурового, но заботливого товарищества. Все, что касалось службы, не допускало послаблений даже среди приятелей, зато вне этого предписывалось неизменное «ты» и дружеское, с оттенком не переходящей известных границ фамильярности, обращение. После присяги Дрозд напоминал, что теперь они солдаты и за проступок могут быть отправлены не к маменьке, а рядовыми в пехотный полк.
И все же молодой задор, не изжитое до конца мальчишество проглядывали в склонности дать свое наименование всему окружающему. Первая рота звалась «жеребцы», вторая - «звери», третья - «мазочки» и четвертая (Александрова) - «блохи». Каждый командир тоже носил присвоенное ему имя. Только к Белову, второму курсовому офицеру, не прилипло ни одно прозвище. С Балканской войны он привез жену-болгарку неописуемой красоты, перед которой преклонялись все юнкера, отчего и личность ее мужа считалась неприкосновенной. Зато Дубышкин назывался Пуп, командир первой роты - Хухрик, а командир батальона - Берди-Паша. Традиционным проявлением молодечества была и травля офицеров.
Однако ж жизнь восемнадцати-двадцатилетних юношей не могла быть целиком поглощена интересами службы.
Александров живо переживал крушение своей первой любви, но так же живо, искренне интересовался младшими сестрами Синельниковыми. На декабрьском балу Ольга Синельникова сообщила о помолвке Юленьки. Александров был шокирован, но ответил, что ему это безразлично, потому что давно любит Ольгу и посвятит ей свой первый рассказ, который скоро опубликуют «Вечерние досуги».
Этот его писательский дебют действительно состоялся. Но на вечерней перекличке Дрозд назначил трое суток карцера за публикацию без санкции начальства. В камеру Александров взял толстовских «Казаков» и, когда Дрозд поинтересовался, знает ли юное дарование, за что наказан, бодро ответил: «За написание глупого и пошлого сочинения». (После этого он бросил литературу и обратился к живописи.) увы, неприятности этим не закончились. В посвящении обнаружилась роковая ошибка: вместо «О» стояло «Ю» (такова сила первой любви!), так что вскоре автор получил от Ольги письмо: «По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с Вами, а потому прощайте».
Стыду и отчаянию юнкера не было, казалось, предела, но время врачует все раны. Александров оказался «наряженным» на самый, как мы сейчас говорим, престижный бал - в Екатерининском институте. Это не входило в его рождественские планы, но Дрозд не позволил рассуждать, и слава Богу. Долгие годы с замиранием сердца будет вспоминать Александров бешеную гонку среди снегов со знаменитым фотоген Палычем от Знаменки до института; блестящий подъезд старинного дома; кажущегося таким же старинным (не старым!) швейцара Порфирия, мраморные лестницы, светлые зады и воспитанниц в парадных платьях с бальным декольте. Здесь встретил он Зиночку Белышеву, от одного присутствия которой светлел и блестел смехом сам воздух. Это была настоящая и взаимная любовь. И как чудно подходили они друг Другу и в танце, и на Чистопрудном катке, и в обществе. Она была бесспорно красива, но обладала чем-то более ценным и редким, чем красота.
Однажды Александров признался Зиночке, что любит ее и просит подождать его три года. Через три месяца он кончает училище и два служит до поступления в Академию генерального штаба. Экзамен он выдержит, чего бы это ни стоило ему. Вот тогда он придет к Дмитрию Петровичу и будет просить ее руки. Подпоручик получает сорок три рубля в месяц, и он не позволит себе предложить ей жалкую судьбу провинциальной полковой дамы. «Я подожду», - был ответ.
С той поры вопрос о среднем балле стал для Александрова вопросом жизни и смерти. С девятью баллами появлялась возможность выбрать для прохождения службы подходящий тебе полк. Ему же не хватает до девятки каких-то трех десятых из-за шестерки по военной фортификации.
Но вот все препятствия преодолены, и девять баллов обеспечивают Александрову право первого выбора места службы. Но случилось так, что, когда Берди-Паша выкликнул его фамилию, юнкер почти наудачу ткнул в лист пальцем и наткнулся на никому не ведомый ундомский пехотный полк.
И вот надета новенькая офицерская форма, и начальник училища генерал Анчутин напутствует своих питомцев. Обычно в полку не менее семидесяти пяти офицеров, а в таком большом обществе неизбежна сплетня, разъедающая это общество. Так что когда придет к вам товарищ с новостью о товарище X., то обязательно спросите, а повторит ли он эту новость самому X. Прощайте, господа.
Вы прочитали краткое содержание романа "Юнкера". Предлагаем вам также посетить раздел Краткие содержания , чтобы ознакомиться с изложениями других популярных писателей.
Обращаем ваше внимание, что краткое содержание романа "Юнкера" не отражает полной картины событий и характеристику персонажей. Рекомендуем вам к прочтению полную версию произведения.