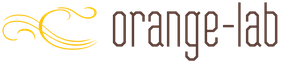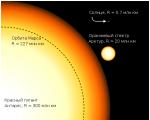Есть женщины словно сестры милосердия достоевский. Женщины на службе Отечеству (историческая ретроспектива)
Алеша, выслушав приказание отца, которое тот выкрикнул ему из коляски, уезжая из монастыря, оставался некоторое время на месте в большом недоумении. Не то чтоб он стоял как столб, с ним этого не случалось. Напротив, он, при всем беспокойстве, успел тотчас же сходить на кухню игумена и разузнать, что наделал вверху его папаша. Затем, однако, пустился в путь, уповая, что по дороге к городу успеет как-нибудь разрешить томившую его задачу. Скажу заранее: криков отца и приказания переселиться домой, «с подушками и тюфяком», он не боялся нимало. Он слишком хорошо понял, что приказание переезжать, вслух и с таким показным криком, дано было «в увлечении», так сказать даже для красоты, — вроде как раскутившийся недавно в их же городке мещанин, на своих собственных именинах, и при гостях, рассердясь на то, что ему не дают больше водки, вдруг начал бить свою же собственную посуду, рвать свое и женино платье, разбивать свою мебель и, наконец, стекла в доме и всё опять-таки для красы; и всё в том же роде, конечно, случилось теперь и с папашей. Назавтра, конечно, раскутившийся мещанин, отрезвившись, пожалел разбитые чашки и тарелки. Алеша знал, что и старик назавтра же наверно отпустит его опять в монастырь, даже сегодня же, может, отпустит. Да и был он уверен вполне, что отец кого другого, а его обидеть не захочет. Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может. Это было для него аксиомой, дано раз навсегда, без рассуждений, и он в этом смысле шел вперед, безо всякого колебания. Но в эту минуту в нем копошилась некоторая другая боязнь, совсем другого рода, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог, именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давешнею, переданною ему госпожою Хохлаковою, запиской прийти к ней для чего-то. Это требование и необходимость непременно пойти вселила сразу какое-то мучительное чувство в его сердце, и всё утро, чем далее, тем более, всё больнее и больнее в нем это чувство разбаливалось, несмотря на все последовавшие затем сцены и приключения в монастыре, и сейчас у игумена, и проч., и проч. Боялся он не того, что не знал, о чем она с ним заговорит и что он ей ответит. И не женщины вообще он боялся в ней: женщин он знал, конечно, мало, но все-таки всю жизнь, с самого младенчества и до самого монастыря, только с ними одними и жил. Он боялся вот этой женщины, именно самой Катерины Ивановны. Он боялся ее с самого того времени, как в первый раз ее увидал. Видал же он ее всего только раз или два, даже три пожалуй, вымолвил даже однажды случайно с ней несколько слов. Образ ее вспоминался ему как красивой, гордой и властной девушки. Но не красота ее мучила его, а что-то другое. Вот именно эта необъяснимость его страха и усиливала в нем теперь этот страх. Цели этой девушки были благороднейшие, он знал это; она стремилась спасти брата его Дмитрия, пред ней уже виноватого, и стремилась из одного лишь великодушия. И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам, по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к ее дому. Он сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею так близок, он у нее не застанет: брат Иван наверно теперь с отцом. Дмитрия же не застанет еще вернее, и ему предчувствовалось почему. Итак, разговор их состоится наедине. Хотелось бы очень ему повидать прежде этого рокового разговора брата Дмитрия и забежать к нему. Не показывая письма, он бы мог с ним что-нибудь перемолвить. Но брат Дмитрий жил далеко и наверно теперь тоже не дома. Постояв с минуту на месте, он решился наконец окончательно. Перекрестив себя привычным и спешным крестом и сейчас же чему-то улыбнувшись, он твердо направился к своей страшной даме. Дом ее он знал. Но если бы пришлось пойти на Большую улицу, потом через площадь и проч., то было бы довольно не близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть не успел еще забыть своего приказания, мог раскапризиться, а потому надо было поспешить, чтобы поспеть туда и сюда. Вследствие всех этих соображений он и решился сократить путь, пройдя задами, а все эти ходы он знал в городке как пять пальцев. Задами значило почти без дорог, вдоль пустынных заборов, перелезая иногда даже через чужие плетни, минуя чужие дворы, где, впрочем, всякий-то его знал и все с ним здоровались. Таким путем он мог выйти на Большую улицу вдвое ближе. Тут в одном месте ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, именно мимо соседского с отцовским сада, принадлежавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в четыре окна. Обладательница этого домишка была, как известно было Алеше, одна городская мещанка, безногая старуха, которая жила со своею дочерью, бывшею цивилизованной горничной в столице, проживавшею еще недавно всё по генеральским местам, а теперь уже с год, за болезнию старухи, прибывшею домой и щеголявшею в шикарных платьях. Эта старуха и дочка впали, однако, в страшную бедность и даже ходили по соседству на кухню к Федору Павловичу за супом и хлебом ежедневно. Марфа Игнатьевна им отливала с охотой. Но дочка, приходя за супом, платьев своих ни одного не продала, а одно из них было даже с предлинным хвостом. О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж конечно совсем случайно, от своего друга Ракитина, которому решительно всё в их городишке было известно, и, узнав, позабыл, разумеется, тотчас. Но, поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост, быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и... наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. За плетнем в соседском саду, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович и изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню. — Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул, — радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. — Полезай сюда! Быстро! Ах, как славно, что ты пришел. Я только что о тебе думал... Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень. Но «Митя» богатырскою рукой подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. — Ну и гуляй, идем! — восторженным шепотом вырвалось у Мити. — Куда же, — шептал и Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко все-таки стоял от них не менее как шагах в пятидесяти. — Да тут никого нет, чего ты шепчешь? — Чего шепчу? Ах, черт возьми, — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом, — да чего же я шепчу? Ну, вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но, понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно, и шепчу как дурак, тогда как не надо. Идем! Вон куда! До тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу!Слава Высшему на свете,
Слава Высшему во мне!..
Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял...
Сад был величиной с десятину или немногим более, но обсажен деревьями лишь кругом, вдоль по всем четырем заборам, — яблонями, кленом, липой, березой. Средина сада была пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько пудов сена. Сад отдавался хозяйкой с весны внаем за несколько рублей. Были и гряды с малиной, крыжовником, смородиной, тоже всё около заборов; грядки с овощами близ самого дома, заведенные, впрочем, недавно. Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенками, но с крытым верхом и в которой еще можно было укрыться от дождя. Беседка строена была бог весть когда, по преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником. Но всё уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, от дерева пахло сыростью. В беседке стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зеленые, на которых еще можно было сидеть. Алеша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но, войдя в беседку, увидал на столике полбутылки коньяку и рюмочку. — Это коньяк! — захохотал Митя, — а ты уж смотришь: «опять пьянствует»? Не верь фантому.Не верь толпе пустой и лживой,
Забудь сомнения свои...
Не пьянствую я, а лишь «лакомствую», как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником и всё будет говорить «лакомствую». Садись. Я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить, ибо на всем свете... по-настоящему... по-на-сто-яще-му... (вникни! вникни!) люблю только одного тебя!
Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти исступлении. — Одного тебя, да еще одну «подлую», в которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя. Запомни! Теперь, пока весело, говорю! Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку, и буду смотреть на тебя, и всё говорить. Ты будешь всё молчать, а я буду всё говорить, потому что срок пришел. А впрочем, знаешь, я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь... здесь... могут открыться самые неожиданные уши. Всё объясню, сказано: продолжение впредь. Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя, все эти дни, и сейчас? (Я здесь уже пять дней как бросил якорь). Все эти дни? Потому что тебе одному всё скажу, потому что нужно, потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают? Ну, так я теперь не во сне лечу. И не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг... Ну да черт, всё равно, что бы ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух, — что бы ни было! Восхвалим природу: видишь, солнца сколько, небо-то как чисто, листья все зелены, совсем еще лето, час четвертый пополудни, тишина! Куда шел? — Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне. — К ней и к отцу! Ух! Совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то, для чего и желал, для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами? Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне, да тем и покончить и с ней, и с отцом. Послать ангела. Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот ты сам к ней и к отцу. — Неужто ты меня хотел послать? — с болезненным выражением в лице вырвалось у Алеши. — Стой, ты это знал. И вижу, что ты всё сразу понял. Но молчи, пока молчи. Не жалей и не плачь! Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец ко лбу: — Она тебя сама позвала, она тебе письмо написала, или что-нибудь, оттого ты к ней и пошел, а то разве бы ты пошел? — Вот записка, — вынул ее из кармана Алеша. Митя быстро пробежал ее. — И ты пошел по задам! О боги! Благодарю вас, что направили его по задам и он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке. Слушай, Алеша, слушай, брат. Теперь я намерен уже всё говорить. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь... А мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь высший простил. Слушай: если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или по крайней мере один из них, и пред тем, улетая или погибая, приходит к другому и говорит: сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, но о чем можно просить лишь на смертном одре, — то неужели же тот не исполнит... если друг, если брат? — Я исполню, но скажи, что такое, и скажи поскорей, — сказал Алеша. — Поскорей... Гм. Не торопись, Алеша: ты торопишься и беспокоишься. Теперь спешить нечего. Теперь мир на новую улицу вышел. Эх, Алеша, жаль, что ты до восторга не додумывался! А впрочем, что ж я ему говорю? Это ты-то не додумывался! Что ж я, балбесина, говорю:Будь, человек, благороден!
Чей это стих?
Алеша решился ждать. Он понял, что все дела его действительно, может быть, теперь только здесь. Митя на минуту задумался, опершись локтем на стол и склонив голову на ладонь. Оба помолчали. — Леша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься! Я хотел бы начать... мою исповедь... гимном к радости Шиллера. An die Freude! Но я по-немецки не знаю, знаю только, что an die Freude. Не думай тоже, что я спьяну болтаю. Я совсем не спьяну. Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтоб опьянеть, —И Силен румянорожий
На споткнувшемся осле, —
А я и четверти бутылки не выпил и не Силен. Не Силен, а силён, потому что решение навеки взял. Ты каламбур мне прости, ты многое мне сегодня должен простить, не то что каламбур. Не беспокойся, я не размазываю, я дело говорю и к делу вмиг приду. Не стану жида из души тянуть. Постой, как это...
Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал:Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Зверолов, с копьем, стрелами,
Грозен бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприютным берегам!
С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.
Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит —
В унижении глубоком
Человека всюду зрит!
Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек.
Но только вот в чем дело: как я вступлю в союз с землею навек? Я не целую землю, не взрезаю ей грудь; что ж мне мужиком сделаться аль пастушком? Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо всё на свете загадка! И когда мне случалось погружаться в самый, в самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось), то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.
Душу божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
В солнцы хаос развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила.
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастье,
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым — сладострастье...
Ангел — богу предстоит.
Но довольно стихов! Я пролил слезы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которою все будут смеяться, но ты нет. Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о «насекомых», вот о тех, которых бог одарил сладострастьем:
Насекомым — сладострастье!
Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастье буря, больше бури! Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай, теперь к самому делу.
К радости! (нем.).
Это произведение перешло в общественное достояние. Произведение написано автором, умершим более семидесяти лет назад, и опубликовано прижизненно, либо посмертно, но с момента публикации также прошло более семидесяти лет. Оно может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
Уж не знаю почему, прочитав дневник "И я полностью согласен", вспомнила эту фразу из книги Достоевского.
Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей.
И классики ошибаются.. но слова эти он написал персонажу буйному с бурей в душе, который дьявола своего победил смирением.
Помните знаменитую фразу Достоевского: «Здесь диавол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»? Несмотря на ее хрестоматийность, мне кажется, что классик не совсем прав. Точнее, эти слова допускают не совсем христианское понимание. Или совсем не христианское.
Сама мысль о борьбе диавола с Богом для христианина абсурдна. Особенно хорошо это видно в евангельском эпизоде искушения Христа в пустыне. Когда диавол предлагает Иисусу все царства мира, если Тот поклонится ему, Христос отвечает искусителю: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». В славянском переводе Евангелия от Матфея эта фраза звучит так: «Иди за мною, сатано: писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужи». С языковой точки зрения русский текст более точен, а славянский является калькой с греческого и искажает смысл фразы (буквально: иди по направлению «за меня»). Но в каком-то смысле эта языковая неточность более жестко указывает на реальное положение вещей – на невозможность диаволу искусить Бога, на несоизмеримую «разность в весовых категориях». Недаром толкователи Библии традиционно отмечают, что в искушении в пустыне Христос отвергает все те соблазны, на которые в свое время прельстилась Ева: соблазн духа, души и тела.
А вторую часть фразы («написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи») можно истолковать не только как то, что Христос пришел послужить Богу, но и как то, что сам сатана, вместо бесплодных попыток искусить Спасителя, должен ему покориться и ему служить.
Повторяю, диавол не борется с Богом, потому что в этой борьбе он обречен. Он может бороться только с нами и побеждать нас. Но если мы выберем Победителя, а не побежденного, то, по мере продвижения по пути к Добру, сердце наше все больше будет превращаться из поля битвы в эдемский сад.
Желаю всем выбрать Победителя.
Здесь Бог с Дьяволом борются, а поле битвы – сердца людей
(Роман «Братья Карамазовы»)
«Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. (…) Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество своё ненавидел. Чем же это всё объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, - тем, что русский либерал есть покамест ещё не русский либерал», - писал Фёдор Достоевский в романе «Идиот».
А своеобразным воплощением этой либеральной лакейщины, крайней степенью оной является персонаж уже другого произведения писателя… Есть в России с некоторых пор особого склада люди, зачастую полагающиеся прогрессивными и «новыми» за счёт своих «передовых» идей, как скорее истребить Россию и русский народ в угоду просвещённому Западу. Таковые господа имеют в нашей литературе весьма «достойного» предтечу – Смердякова. «Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь» - подобное отношение к народу и есть ни что иное, как смердяковщина. Смердяковщина – презрение и ненависть к России, ко всему русскому, отказ России в праве на собственное развитие, собственную мысль, собственную национальную самобытность. Все эти черты в той или иной степени были и ныне свойственны русским либералам. И дико смотрятся многочисленные лакеи в образе учителей да новоявленной «знати». Нынешние «смердяковы» образованны и лощёны в отличие от своего предшественника, надушены дорогим парфюмом, но и он не способен забить смрад от них исходящей. И суть их остаётся неизменной во все времена. «Я желаю уничтожения всех солдат-с. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Демократичнее было бы, цивилизованнее! Да, вот, вечная беда: народец – дрянь! Мешается! «Русский народ надо пороть-с!» И один известный либерал, современник Достоевского, ответил однажды своему оппоненту на довод, что «этого народ не допустит»: «Тогда уничтожим народ!» Просто и понятно. Смердяковщина – превалирующая идеология большой части либеральной публики. Сводится она к одному единственному признанию: «Я всю Россию ненавижу!»
Но откуда же берутся «смердяковы»? Из чего произрастают они? Их разум слишком мелок и неразвит для изобретения идей собственных. Идеи, в несколько изуродованном под себя виде, перенимают они от прелюбодеев мысли, лукавых мудрецов, надменных умников, кои, при полном неверии во что бы то ни было, проповедуют в зависимости от настроения то Бога, то чёрта, то либерализм, то социализм, противопоставляя теории свои, плоды ума человеческого, разуму высшему, подменяя человеческим судом Божию справедливость. Именно эти люди – духовные отцы «смердяковых».
И это в точности показано на примере Ивана Карамазова. Личность его весьма противоречива, ибо расколота сама в себе, а, как известно, «дом, расколовшийся в себе, не устоит». Иван яростно отрицает Бога, точнее, мир Божий, но он-то, быть может, пуще кого бы то ни было жаждет веры. Его трагедия в его безверии, в том, что надменная его душа не в силах уверовать во что-то, а оттого обречена вечным метаниям и сомнениям. Иван так страстно обличает мир, возможно, потому, что тем самым пытается оправдать себя. Он словно обижен на Бога за то, что мир его оказывается не таким справедливым, не тем, каковым должен был бы быть он в понимании Ивана Фёдоровича. Когда же он говорит о любви своей к детям, то лукавит. Ибо, если подлинно любишь детей, то следует иметь снисходительность и жалость ко взрослым. А этого у Ивана нет. И, вопия о страданиях детей, сам он никогда не станет облегчать их отдельно взятому ребёнку. Поэтому суждения его, отчасти справедливые и убедительные есть демагогия. Замечательно ещё, что Иван, подобно Свидригайлову, собирается уехать в Америку... Отступивший от Бога, в конечном итоге предаёт себя в руки дьяволу. Так происходит и с Иваном. И, вот, он, подобно другому персонажу Достоевского, Ставрогину, начинает верить… в беса. В канонического беса! Потому что последний ему является… Не может вынести душа Ивана собственного декларируемого принципа: «Всё дозволено!» - который восторженно впитывает в себя Смердяков и следует ему. Хотя даже последнему оказывается не по зубам идти по этому пути: «Они от дел своих казнятся!»
Груз вседозволенности оказывается не по силам и Ивану, надрывает его умственные и душевные силы, ведя к саморазрушению. Ведь Иван не Смердяков. В нём живо ещё и благородство, и совесть. И чувствует он после убийства отца свою сопричастность, хотя и пытается отрицать это вначале: «Да я и сам знаю, что не я убил…». И слышит сокрушающий ответ: «Знаете-с? В таком случае, вы-то и убили!» Мысль эта потрясает Ивана Федоровича, и он, этот проповедник вседозволенности, идёт в суд, чтобы признаться в убийстве и спасти столь нелюбимого брата: «Берите меня! Я убил! Отпустите его, изверги!» Это иной уже Иван. И, может быть, пройдя через горнило болезни, душа его, пребывавшая во мраке, но страдавшая о свете, свет этот всё-таки узрит…
А проводником к нему вполне может стать брат Ивана – Алёша, чистое сердце, за которое Бог с Дьяволом борется. Алёша – сын блудника Фёдора Павловича и любимый ученик праведного старца Зосимы. И для него середины быть не может: или быть с Богом всецело, или бунт. Однако, старец избирает для него испытание наиболее тяжкое – подвиг в миру, где придётся пройти смиреннику все возможные искусы. Первую брешь в нерушимой Алёшиной вере пытается пробить Иван. И спор их есть едва ли не самая существенная часть романа, ибо тут столкновение двух начал, веры истинной и лукавой теории, души чистой и разума гордого.
Примечательно, что в начале разговора Иван признаётся:
«- Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я может быть себя хотел бы исцелить тобою, - этого исцеления Алёшей жаждут, пожалуй, все Карамазовы, и не только они, все они тянутся к нему. Может оттого, что подлецы всегда к чистоте тягу имеют?»
Далее Иван развивает свою идею:
«- Я тебе должен сделать одно признание - я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то по-моему и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про "Иоанна Милостивого" (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом, с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое - пропала любовь. (…) По-моему Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был бог. Но мы-то не боги. Положим, я например глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и сверх того редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдавил ему ногу. К тому же страдание и страдание: унизительное страдание, унижающее меня, голод, например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею, например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уже про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне однако же кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали "яко бози". Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем невиновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж конечно за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, - но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, Карамазовы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей совсем будто другое существо и с другою природой. (…)
- Ты говоришь с странным видом, - замечает Алёша, - точно ты в каком безумии.
(…)
- Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная… (…)Ну вот живет генерал в своем поместье в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то играя камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. "Почему собака моя любимая охромела?" Докладывают ему, что вот дескать этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. "А, это ты, - оглядел его генерал, - взять его!" Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, на утро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом его приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... "Гони его!" командует генерал, "беги, беги!" кричат ему псари, мальчик бежит... "Ату его!" вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!
- Расстрелять! - тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.
- Браво! - завопил Иван в каком-то восторге, - уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!
- Я сказал нелепость, но...
- То-то и есть, что но... - кричал Иван. - Знай, послушник. Что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем!
- Что ты знаешь?
- Я ничего не понимаю, - продолжал Иван как бы в бреду, - я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...
- Для чего ты меня испытуешь? - с надрывом горестно воскликнул Алеша, - скажешь ли мне наконец?
- Конечно скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме.
Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно.
- Слушай меня: я взял одних деток, для того чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра - я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, - но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю - мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот однако же детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю - вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж конечно правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!" Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: "Прав ты, господи", то уж конечно настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я пожалуй воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: "Прав ты, господи!" но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к "боженьке"! Не стоит потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями не отомщенными.
Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.
- Это бунт, - тихо и потупившись проговорил Алеша.
- Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, - проникновенно сказал Иван. - Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, - отвечай: Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
- Нет, не согласился бы, - тихо проговорил Алеша.
- И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
- Нет, не могу допустить. Брат, - проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, - ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои"».
И после этих слов Иван рассказывает брату свою поэму «Великий Инквизитор». Поразителен реакция Алёши, совершенно понявшего суть Инквизитора и ему подобных «умных людей», их «человеколюбия»:
«- Никакого у них нет такого ума, и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет! – и сокрушённо обращается он к брату, поняв страдание его: - Как же жить-то будешь, чем ты любить-то будешь? С таким адом в груди и в голове разве это возможно? (…)
- Есть такая сила, что все выдержит!
- Какая сила?
- Карамазовская... сила низости Карамазовской.
- Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?
- Пожалуй и это... только до тридцати лет может быть я избегну, а там...
- Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.
- Опять-таки по-карамазовски.
- Это чтобы "все позволено"? Все позволено, так ли, так ли?
Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.
- Да, пожалуй: "все позволено", если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. (…) Я, брат, уезжая думал, что имею на всем свете хоть тебя, а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы: "все позволено" я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?
Алеша встал, подошел к нему, и молча, тихо поцеловал его в губы».
После выхода в печать романа «Братья Карамазовы» на Достоевского обрушился шквал критики. Фёдор Михайлович ответил хулителям: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе»… которому ответом служит весь роман. Не дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!.. Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы научно, не столь высокомерно по части философии… И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…
В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?»
После «Братьев Карамазовых» Достоевский собирался написать новый роман – «Дети». О судьбе Алёши Карамазова, который, вернувшись, по завету старца Зосимы, в мир должен был попасть в среду революционеров, переболеть их идеей устроения справедливого общества, для реализации коей все средства хороши, и побороть в себе это искушение.
Ивану удалось таки посеять в душе брата семена сомнений, однако, силой направляющей для последнего навсегда останется старец Зосима, его поучения, кои недурно было бы помнить всякому. Чему же учил старец?
«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, - знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной...»
«Народ божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно... Не лихоимствуйте... Сребра и золота не любите, не держите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его...»
«Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай", - вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение, тем что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу, как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства.
Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтоб утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей, зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. (…) И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали напротив в отъединение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше.»
«Ад есть страдание о том, что нельзя уже более любить».
«О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было бога жизни, чтоб уничтожил себя бог, и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти...»
Христос призывает своих учеников к совершенству: «Будьте совершенны как Отец ваш небесный». Усилия по стяжанию нравственной чистоты и духовного совершенства (а попросту говоря по исполнению заповедей Христа) получили в святоотеческой литературе наименование «Невидимой брани» или «Духовной брани».
Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей
Ф. М. Достоевский
Что такое «брань»?
Брань означает борьбу, битву, сражение. Битвы в средневековье проходили часто, это была реальность близкая всем людям, а потому и образ, который использовался в аскетической литературе, был всем понятен. В сражении решался вопрос жизни и смерти. Таким образом, христианские авторы хотели подчеркнуть, что духовная брань напрямую связаны с самыми основами нашего существования.
Почему невидимая?
Главные противники человека в духовной борьбе – он сам и искушающие его бесы. Он сам - это наши страсти и дурные наклонности, привычки, которые мы должны искоренять и преодолевать для достижения совершенства. Кроме того, враг человеческого спасения, дьявол, если не напрямую, то хитростью и коварством склоняет человека ко злу, искушая различными помыслами и мечтаниями, подавая повод грешить. Однако последнее слово в выборе пути остается за человеком. Но только Богу и человеку известно, сколько нужно приложить духовных усилий, чтобы сделать шаг в верном направлении! Эта внутренняя борьба в душе человека не видна постороннему взгляду, но ее последствия имеют непосредственное отношение к окружающим его людям и миру.
Земная битва закаляет воина, делает его сильнее и умнее в борьбе с противником. То же можно сказать и о духовной борьбе. Когда человек получает добрый навык в борьбе со своими греховными страстями (пусть даже и не проявляющимися в виде грехов ных поступков), он внутренне совершенствуется, духовно растет. Недаром один из великих аскетов и подвижников Православной церкви прп. Иоанн Лествичник сравнивает эту борьбу с трудным восхождением по ступеням лестницы добродетелей.
К битве необходимо правильно подготовиться, чтобы ее не проиграть. Как это сделать пишет апостол Павел в своем послании к Ефесянам 6,14-17:
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
С чего начать?
Как исполнить слова Апостола, нам разъясняет святоотеческая аскетика. Говоря упрощенно:
- Путь воина Христа, направление и стратегия битвы изложены в «Лествице» преподобного Иоанна Лествичника.
- Тактика, приемы ведения боя и Боевой Устав - в «Невидимой брани» преподобного Никодима Святогорца (перевод святителя Феофана Затворника).
- Устав внутренней службы - в «Душеполезных поучениях» аввы Дорофея.
- Чтобы получить первоначальное представление об образе воина Христа, о том, как он выглядит, надо прочесть письма игумена Никона «Нам оставлено покаяние» и письма схиигумена Иоанна «Письма Валаамского старца». А для людей с повышенными интеллектуальными требованиями еще и жизнеописание и письма игуменьи Арсении (Сребряковой).
- Ни в коем случае не следует приступать к сражению, не изучив пятитомник святителя Игнатия (Брянчанинова). Его работы - не только переложение аскетики на современный нам язык; святитель Игнатий выбрал из отцов только то, что еще по силам ослабевшему и изнемогшему христианину последних времен. Без советов святителя Игнатия начинающий воин быстро и бесславно проиграет битву (то есть попадет в ад), не поняв её внутренней сути и способа оценки своих сил и средств. Отцы древности на такие объяснения не особенно разменивались, для них новоначальный - это тот, кто живет в пустыне, спит по четыре часа в сутки, действительно скудно питается, трудится в поте лица и исполняет молитвенные правила, какие не снились современным подвижникам. А для нас новоначальный - это тот, кто "Отче наш" и Символ веры выучил, и неизвестно еще,