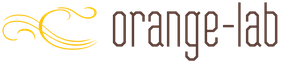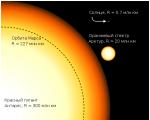Борис шергин, степан писахов сказы и сказки. Книга:, «волшебные поморские сказки рипол классик Волшебные поморские сказки борис шергин
Books"/>
|
Волшебные поморские сказки продолжают успешную серию&171;Волшебные сказки со всего света&187;. В этой книге мы обращаемся к многолетней мудрости русского народа, населяющего суровые места в окрестностях Белого моря. Это двухчастное издание, соединившее в себе литературную обработку фольклорных сказок от двух патриархов русской литературы Бориса Шергина и Степана Писахова. Оба они родились и выросли в Архангельске, поэтому так великолепно в своих сказках воссоздают атмосферу, быт и даже диалектические особенности жителей края. Сказки настолько стали популярными, что по их сюжетам были сняты великолепные мультфильмы. И даже те, кому неизвестны фамилии писателей, уж точно вспомнят иронические сюжеты мультфильмов про сварливую Перепилиху, апельсин, выросший посреди реки, и незадачливого простачка Ивана, вздумавшего жениться на царской дочке. Дополняют книгу великолепные иллюстрации Дмитрия Трубина, который, являясь уроженцем тех же мест, что и Борис Шергин и Степан Писахов, как нельзя точно передал местный колорит. ISBN:978-5-386-08000-6 |
|
| Место рождения: |
Архангельск |
|---|---|
| Дата смерти: | |
| Место смерти: |
Архангельск |
Биография
Детские годы
В фонде архангельской духовной консистории в метрической книге Рождественской церкви г. Архангельска на г. есть актовая запись под № 37, где написано: «13 окт. 1879 г. у мещанина Григория Михайловича Пейсахова и законной его жены Ирины Ивановны родился сын Стефан».
Отец Степана, Григорий Михайлович был купцом, выходцем из еврейской семьи, крестившимся в православие. Согласно материалам г., в семье 49-летнего купца были жена Ирина Ивановна, 45 лет, сын Степан 17 лет и дочери Таисья, Серафима и Евпраксинья, соответственно 18, 13 и 11 лет. Своё основное занятие купец определил как «Золотых и серебряных дел мастерство», а побочное - «торговля разными хозяйственными принадлежностями». На деле это означало, что Григорий Михайлович имел ювелирную мастерскую и небольшой магазин. В семье купца работали три человека прислуги: экономка, кучер и кухарка. Кроме того, Григорий Писахов содержал подмастерье и одного ученика.
Ирина Ивановна, мать Писахова, была дочерью писаря конторы над Архангельским портом Ивана Романовича Милюкова и его жены Хионии Васильевны. Хиония Васильевна была староверкой, «строга и правильна в вере».
Душа художника и сказочника Степана Писахова формировалась под влиянием двух противоположных стихий: устремление к Царю небесному материнской веры и отцовской жаждой практического устроения на земле зажиточной жизни. Рос мальчик в атмосфере староверческих правил жизни. Знакомство с песнями, и , народной поэзией давало уму особое направление. Не удивительно, что герой Писахова может передвигать реки, ловить ветер. О причастности своей к «роду староверскому» Писахов никогда не забывал и в знак уважения к религиозным воззрениям своих предков написал с натуры этюд, а затем картину «Место сожжения в ».
Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и граверным делам. Когда вслед за старшим братом Павлом, художником-самоучкой, Степан потянулся к живописи, это не понравилось отцу, который внушал сыну: «Будь сапожником, доктором, учителем, будь человеком нужным, а без художника люди проживут». «Чтение преследовалось», - вспоминал Писахов. Тайком забирался под кровать с любимой книгой и там читал. Огромное впечатление произвела книга « ». Она подогревала желание Писахова убежать из-под опеки отца. Сам Писахов был похож чем-то на . Наверное, своей любовью к добру и справедливости, неприятием неправды и человеческой чёрствости. Всю свою жизнь он искал царство «искренних, простых отношений».
Самостоятельная жизнь
В гимназию Писахов не попал (по возрасту), окончил всего лишь городское училище и то с запозданием. Бегство и странничество виделось ему единственным выходом из тисков домашней жизни, и после окончания городского училища в г. он устремляется вначале на , потом поступил на лесозавод рубщиком («заработал за лето 50 руб.»). Потом - , попытка поступить в художественную школу. Попытка оказалась неудачной, в г. он уезжает в и поступает в (училище технического рисования и прикладного искусства). Наиболее способные ученики могли получить дополнительную подготовку по станковой живописи и ваянию. Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, и он несколько лет занимался живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. На получаемые из дома ежемесячные 10 руб. Писахов на протяжении 3-х лет влачит полуголодное существование, овладевая в училище профессией учителя рисования и художника-прикладника, а на занятиях в частных школах - живописью. О трудностях, которые он пережил в Петербурге, можно судить по названию воспоминаний, которые не завершил: «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Но Писахов не унывал: много читал, ходил в музеи и театр. В г., не закончив курс обучения, Писахов вместе с большой группой студентов уходит из училища. Не имея на руках диплома о праве занятия учительской должности (аттестат был выдан в г.), лишённый всяческих источников существования Писахов готов признать ошибочным свой выбор пути художника.
Писахов был аскетически неприхотлив и верил в людей. В трудную минуту - выручали. На пароходе от ледяного ветра его укрыл буркой старый болгарин, в ограбили - русский эмигрант накормил, дал в долг. Почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств в . В выставил свои работы, они потрясли зрителей серебряным сиянием («север даёт»). Вернулся домой в Архангельск. «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берёз? … А… летние ночи, полные света без теней - это так громадно по красоте…».
Три зимы после путешествия на юг - гг. Писахов провёл в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата. Популярный в те годы почти не повлиял на Писахова (весьма скромная дань: «Сны» и «Церковь, путь к которой потерян»). Летом - , и . Из поездок по Пинеге и Печоре привез 2 цикла: «Северный лес» и «Старые избы». «Старые избы» - небольшая часть огромной работы, проделанной Писаховым для увековечения памятников северной архитектуры. Всё в сумрачных серо-коричневых тонах. К ним присоединяются и обширные этнографические зарисовки. Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в г. по Карскому морю на корабле «Св. Фока», участие в г. в поисках , исследование земли , присутствие при основании первых станций радиотелеграфа на , Маре-Сале и острове . Всё увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Риме. Очень любил бывать на острове. В его картинах беломорского цикла - ощущение бесконечности мироздания. Природа раскрывается перед человеком, сливается с его существом. Кажется, что главная тема этих картин - тишина, рождающая творческую сосредоточенность. Картины просты по сюжету: камни, берег моря, сосны. Особый свет: серебристый зимой и золотисто-жемчужный летом. Удивляет умение показать бесчисленное множество оттенков белого.
Первые выставки. Признание

В 1910 г. в Архангельске проходила выставка «Русский Север». Писахов принял самое активное участие в организации её художественного отдела и выставил более двухсот своих картин. 60 работ Писахова были представлены на юбилейной выставке 1911 года, посвященной 200-летию Царского Села. В г. за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его картины экспонируются на «Выставке трёх» (Якова Бельзена, Степана Писахова, ) в Петербурге в 1914 г. Художник был тогда в расцвете своих творческих сил. Возможно, на одной из этих выставок и произошел его разговор с , о котором он упоминает в письме искусствоведу Михаилу Бабенчикову (1956 г.): «На выставке Илья Ефимович (Репин) хорошо отнёсся к моим работам. Ему особенно понравилась „Сосна, пережившая бури“ [в настоящее время картина, к сожалению, утеряна]. Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты. „Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить“.
Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я … не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать». Скорее всего это было в Царском Селе, когда Репин работал над картиной «А. С. Пушкин на акте в лицее 8 января 1815 года».
Писахов в годы первой мировой и гражданской войн
Прервала художественную деятельность Писахова. В 1915 г. он был призван в армию, служил ратником ополчения в , а в 1916 г. был переведен в . Здесь его застала . С первых дней работал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов, оформлял первомайскую демонстрацию (1917 г). После демобилизации г. вернулся в Архангельск. Заряд творческой энергии, от рождения заложенный в Писахове, был столь велик, что одного увлечения живописью уже казалось недостаточно для полного выражения индивидуальности. Писахов берётся за перо. Впервые записывать свои рассказы Писахов стал ещё до революции по совету Иеронима Ясинского - писателя, журналиста, известного как редактор журналов «Беседа» и «Новое слово». Тогда эта попытка закончилась неудачей. Теперь Писахов решил попробовать свои силы в жанре очерков («Самоедская сказка» и «Сон в Новгороде»), где воссоздаёт портреты современников. Оба эти очерка были опубликованы в архангельской газете «Северное утро», которая издавалась поэтом-суриковцем и журналистом М. Л. Леоновым. В мае 1918 г. последовал арест М. Л. Леонова и закрытие газеты. В июне 1918 в Архангельске открывается персональная выставка Писахова. А 2 августа в Архангельск вошли интервенты. «Население встречало с энтузиазмом проходившие части». (Из воспоминаний С. Добровольского, возглавлявшего в те годы военно-судебное ведомство Северной области). В числе народа, стоявшего на парадной пристани Архангельского порта, был и Степан Писахов. На первых порах интервенты пытались заигрывать с населением, представляя себя защитниками демократии. Временное правительство Северной области терпимо относилось к творческой интеллигенции, яркими представителями которой были , и Степан Писахов. Они имели возможность устраивать выставки картин, публиковались в газетах, выпустили сборник «На Севере дальнем». Все трое не подозревали, что ситуация может резко измениться и их творческая активность будет расценена как пособничество «белым». В ночь на 19 февраля 1920 г. в Архангельск вступили части Красной Армии. Л. Леонов сразу же покинул Архангельск, перебрался на юг России; Б. Шергина пригласили в Москву в Институт детского чтения; Писахов же не в силах был покинуть родной дом и любимый Север. Он чувствовал, что Архангельск, особенности родного края делают его личностью, именно творческой личностью. Больше всего на свете он любил этот свой дом. Ему оставалось только одно - найти форму поведения, позволившую бы выжить и сохранить творческое лицо в условиях власти, которая никогда ничего не забывала и не прощала. Но через много лет, когда он был уже известным сказочником и художником, нашлись все же люди, которые из зависти или по другой какой причине стали писать пасквили и способствовали тому, чтобы «белогвардейское» прошлое прочно укрепилось за Писаховым.
Писахов в 20-30-х годах
В 1920-м, после окончательного установления в Архангельске советской власти, Писахов начинает активно работать. В 1920-1921 гг. он подготовил 5 своих выставок. Губисполком поручает ему приведение в порядок музеев Архангельска. По заданию московского Музея Революции делает зарисовки мест боёв с интервентами на Севере, а для - зарисовки памятников архитектуры на Мезени и Пинеге. Осенью 1920 г. участвует в комплексной экспедиции в Большеземельскую тундру. В г. Писахов ведет сбор материалов для этнографической экспозиции Севера на первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке в Москве. В г. его картина «Памятник жертвам интервенции на о. Иоканьга» занимала центральное место на всесоюзной выставке «10 лет Октября», за неё он был премирован персональной выставкой, состоявшейся через год в Москве. Две его картины были приобретены и помещены в кабинете . Но повседневная жизнь Писахова по-прежнему остаётся неустроенной. Денег не хватало. Писахов берётся за преподавание живописи.
Преподавание
Основным заработком Писахова до войны и после войны были уроки рисования. Почти четверть века проработал он в школах Архангельска. Преподавать рисование начал в г. Работал в третьей, шестой и пятнадцатой школах. В автобиографии, датированной 23 октября 1939 г., он писал: «Мои ученики без добавочной художественной подготовки поступали в художественные вузы, что считаю тоже своей наградой». Из воспоминаний его бывшего ученика, художника-графика Ю. М. Данилова: «Прежде всего, человек необыкновенный, с необыкновенным багажом знаний, с необыкновенной щедростью отдачи всего, что знал и умел, с необыкновенной добротой». Они познакомились, когда Юра был учеником 3-й архангельской школы, где Писахов преподавал рисование. Разглядев в Юре дарование на уроках рисования, Писахов пригласил его в студию, которую открыл у себя в мастерской. После войны Ю. Данилов поступил в Академию художеств на архитектурный факультет. И только приехал в родной Архангельск - встретил на улице Писахова. Степан Григорьевич тут же предложил Данилову проиллюстрировать свою книжку сказок. То ли хотел помочь материально вчерашнему фронтовику, то ли подталкивал своего ученика, студента архитектурного факультета, на художественную стезю. Как бы то ни было, книжка вышла в 1949 г. и стала первым опытом Данилова в иллюстрации. Писахов сам никогда не иллюстрировал свои сказки. А чужим иллюстрациям от души радовался. Считал, что каждый имел право на своё прочтение его сказок. Этим он и дорожил. Десятки художников их оформляли, почти у каждого есть находки.
Литература
Известность С. Г. Писахов снискал как автор изумительных, поистине неповторимых сказок. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка „Ночь в библиотеке“ мной была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо - не слушай…» появилась в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине», издаваемом архангельским обществом краеведения. По своему характеру она так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Б. Шергина и А. Покровской, сотрудников московского Института детского чтения. Именно их поддержка помогла Писахову найти свой путь в литературе. Сказка «Не любо - не слушай» стала тем материнским ложем, из которого вышли ставшие знаменитыми «Морожены песни», «Северно сияние», «Звездный дождь». Писахов сразу нашел удачный образ рассказчика (Сеня Малина из деревни Уймы), от лица которого и повёл повествование во всех своих сказках. Сказки также публиковались в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера». Но пробиться на страницы столичных журналов Писахову долгое время не удавалось. Лишь в году он сумел опубликовать несколько своих сказок в журнале «30 дней». Они вышли в 5 номере журнала под заголовком «Мюнхаузен из деревни Уйма». Теперь Писахов уже не терзался сомнениями по поводу «писать или бросить». «Когда сказки стали появляться в „30 дней“, меня как подхлестнуло». За короткое время ( - годы) этот популярный журнал Союза писателей опубликовал более 30-ти сказок Писахова. Словом, открыл сказочника именно этот журнал. Публикации в «30 дней» ускорили издание первой книги Писахова, которая вышла в Архангельске в г. А вскоре появилась и вторая книга ( г.). В эти книги вошло 86 сказок. Сказки Писахова - это продукт индивидуального писательского творчества. Народные по духу, они имеют мало общего с традиционной фольклорной сказкой. У чудес в сказках Писахова совершенно иная природа, чем у чудес народных сказок. Они порождены писательской фантазией и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а фантастична. «В сказках не надо сдерживать себя - врать надо вовсю», - утверждал писатель, понимая, что никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может. Один из излюбленных приёмов Писахова - материализация природных явлений (слова застывают льдинками на морозе, северное сияние дергают с неба и сушат т.д.) становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках. Это во многом определяет тот особый юмор, который так характерен для сказок Писахова: все, о чем говорится в них, вполне может быть, если в самом начале допустить существование таких овещественных явлений. В 1939 г., когда Степану Григорьевичу уже было 60 лет, его приняли в члены Союза писателей . Он мечтал о выходе книги в Москве. Перед войной в Москве, в ГИЗе подготовили книгу сказок Писахова, но она так и осталась в рукописи. Когда начались боевые действия, сказочная тематика отошла на второй план. Годы войны Писахов провел в Архангельске, разделяя со своими земляками все невзгоды тыловой жизни. Часто вместе с другими литераторами был желанным гостем в госпиталях. Из письма А. И. Вьюркову - московскому писателю, постоянному корреспонденту С. Г. Писахова в годы: «Время не ждёт, стукнуло 65. Была собрана юбилейная комиссия. Надо было подписать отношение в Москву для утверждения о разрешении юбилея. … Кому надо было подписать… - отменил. Просто запретил! И всё. Даже учительской пенсии нет, даже возрастной нет. Живу перевертываюсь… Порой хочется жить. Хочется дождаться конца погани - фашистов. На мне одежда расползается. Пальто донашиваю отцовское!… А я еще тяну, все еще как-то нахожу возможность оплатить обед, штопать одежду, утешаюсь мыслями: вычеркнуть юбилей смогли - вычеркнуть меня из существования могут. Вычеркнуть мои работы - картины, сказки… Врут-с! Не вычеркнуть!» После войны Писахов приносит в Архангельское издательство рукопись, состоящую из ста написанных им сказок. Её «два года перечитывали…» и наконец отобрали девять сказок. Эту маленькую книжечку, опубликованную в 1949 г., Писахов отослал И. Эренбургу с просьбой «помочь подтолкнуть в издании мои сказки». Но лишь в 1957 г. в издательстве «Советский писатель» появилась первая «московская» книга Писахова. К писателю приходит всесоюзная известность. 80-летие со дня рождения широко отмечают в Архангельске. Центральные и местные издания публикуют статьи о «северном волшебнике слова». Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, заметки, дневники, опубликованные в большинстве своём после смерти писателя.
С давних времен из Новгорода на Говор нашей страны, к Белому морю, переселились предки нынешних поморов. Они стали ходить за рыбой сначала по Двине и у морских берегов, а потом - все дальше в море на промысел за тюленями и моржами. Все шире расселялись новые пришельцы по морскому берегу; их так и назвали поморами.
Борьба с суровой природой выковала у поморов крепкий характер, уменье не теряться в трудных обстоятельствах, решительность и твердость духа.
В бурном, изменчивом морс одному человеку несдобровать, и поморы шли на промысел артелью, дружиной. Крепкая дружба, взаимная помощь связывали дружину. Помор всегда был готов выручить в беде товарищей: на промысел выйдешь - опирайся на товарища, но и сам помогай ему, береги, как себя, - это закон для помора.
Народ на Севере не знал унизительного гнета крепостного права, был грамотен и самостоятелен. Когда с берегов Белого моря Россия начала торговать с иностранными купцами, поморы первыми стали ходить с товарами на своих судах в Норвегию, Швецию, Англию, всюду заслуживая уважение за свою отвагу и честное отношение к делу.
На широкой Северной Двине, при самом впадении ее в Белое море, издавна возник город Архангельск. Это было удобное место для города: вниз по реке везли все, что давали русским густые северные леса, по морю приходили за нашим сырьем иноземные суда. Шумная, кипучая жизнь шла в Архангельске, у причалов, где слышалась и русская речь, и речь иностранцев, пришедших на своих судах.
Прекрасная природа Севера привлекала сердце тончайшими своими красками; суровая, она была родной, любимой матерью помору. Над широкими просторами Северного края летом стоит в небе «незакатимое» солнце, и в светлое летнее время, когда затихают над морем ветры, человек ищет поэтических слов, чтобы запомнить и передать людям свое понимание родной северной природы.
Помор, ушедший в море на промысел, любит вдали от берега послушать и сам рассказать о виденном - он тонкий ценитель искусства слова. Испокон веку у поморов были свои талантливые певцы, сказители. Люди большой поэтической одаренности и удивительной памяти, они не только могли спеть десятки давних, услышанных от старших, песен и старин (так поморы называют былины), рассказать множество сказок, но и сложить свои, новые песни, старины и сказки. В них отражались и исторические события, и труд помора на зверобойных и рыбных промыслах, а главное, тот высокий подъем духа, который веками выковывался у поморов в борьбе с суровой природой ледовитого моря, куда они первые прокладывали путь следующим поколениям.
Много наблюдений, примет, сведений о направлении морских течений, о льдах, ветрах, погоде, сохраненных памятью рассказчиков, оказались полезными, важными и в наши дни освоения Арктики. Когда в наше, советское время герои-полярники развертывают научно-исследовательские станции на льдинах, изучают природу Северного Ледовитого океана, то не раз, конечно, вспоминают они славных мореходцев прошлого, первых исследователей, заходивших на далекие острова и берега родного Севера. Немало таких смелых людей погибло в море, оставив по себе добрую память в поморских былинах и сказаниях.
Автор этой книги Борис Викторович Шергин вырос в Архангельске, среди трудовых людей: отец его, коренной помор, был корабельным мастером - строил морские парусные суда. С детства Борис Викторович постоянно видел работавших с отцом старых мореходцев и слышал их рассказы. Нельзя было надивиться, как искусно сплетались их замысловатые сюжеты, нельзя было наслушаться чистой, высокой речи рассказчиков. Воспитанный на сокровищах словесного творчества северных людей, будущий писатель навсегда сохранил в памяти и самих творцов этого сокровища.
Незабываемым наставником своим писатель называет Пафнутия Осиповича Анкудинова, замечательного мастера слова. Его рассказы Борис Викторович запомнил на всю жизнь и поэтическую основу их впоследствии донес до нашего времени. Он ярко, талантливо, по-своему написал эти старинные поморские былины, предания, сказки. Он рассказал нам о любимом своем Севере, о добрых, честных людях, мастерах своего дела, которых знал в детстве и юности.
Героический образ человека, которому честь дороже жизни, встает из старых преданий и былей, передававшихся от отцов к детям, от дедов - внукам. И герои произведений Шергина - самоотверженные, справедливые и умелые люди; из рук их никакая работа не выпадает, им можно доверить руководство любым промыслом, постройку и вождение морских судов. Они знают, что такое честное слово человека, с честью выполняют порученное им дело. Эти умные и талантливые люди стремятся не к собственному обогащению и почету, а к славе своей родины, для этого и сил и жизни не жалеют.
В рассказах Шергина и в переданных им старинных сказаниях с большой поэтической силой показана глубокая, крепкая связь поморов со своим «отеческим морем». «Уж ты кормишь, поишь, море синее, обуваешь, одеваешь, море соленое…» - поют поморы. Это та великая связь человека с природой, которую он устанавливает вековечным своим трудом и которая порождает горячую любовь к своему краю, к своей родине. Особенно ярко, своеобразно эта связь показана в сказаниях «Братанна» и «Гнев».
В сказании «Гнев» повествуется о том, как два брата жили в двинском устье, ходили на промысел к Новой Земле и «неубыточно правили торг у себя на Двине». Старший брат, Лихослав, нарушил «товарищество» - обязательное в морских походах правило справедливого и честного отношения кормщика к своей дружине: собственного брата Гореслава он бросил вместе с другими охотниками на необитаемом тогда берегу Новой Земли. Наказывает Лихослава за нечестный, коварный поступок сам «батюшко океан, Студеное море». В этом сказании честный труд человека прославлен с большой поэтической силой.
А несчастную, немую Братанну, которая «в лютый день» просит защиты от несправедливости людской у синего моря, «батюшко море, кормилец» спасает от гибели и болезни.
В произведениях Шергина сильно звучит поэтическое его слово. Великолепный, красочный северный язык украшает и картины природы, и диалоги действующих лиц; все его герои говорят кратко и сильно, выражая короткой, как пословица, фразой свое отношение к событию и черты собственного характера. «Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях!»- говорит Матюша Корелянин в рассказе «Матвеева радость».
Этот Матюша Корелянин с шести лет остался круглым сиротой, а с двенадцати лет уже начал тяжелую трудовую жизнь - отправился зуйком на Мурманские промыслы. Рано понял он, что помору «море - поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу».
Чуть не с детских лет мечтал Матюша Корелянин о своем суденышке; брался за всякую работу, «не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом», чтобы скопить на судно, вырваться из хозяйской кабалы, выбиться из бедности. Но только после Октябрьской революции, которая, по образному выражению автора, «подвела купеческие суда к бедняцкому берегу», исполнилась мечта Матвея Корельского. Его, известного всем своей честной трудовой жизнью, избирают председателем местного рыбопромышленного товарищества, и он получает в свое распоряжение отнятую у него когда-то шхуну купца Зубова. С какою любовью взялся Матвей, уже пожилой человек, за ремонт запущенной Зубовым посудины и назвал обновленный корабль «Радостью»…
О том новом, что появилось на Севере в наше время, о новых героях, о людях настоящего Б. В. Шергин пишет и в рассказе «В относе морском».
Сказы и сказки
«Сказы и сказки»: Издательство «Современник»; Москва; 1985
Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
– Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки ти с места сходят, надо их пригнетать».
И такая жизнь, оказывается, и требует от человека неиссякаемой любви, непрестанного нравственного подвига, притом неэффектного, невидного, не рассчитанного ни на какое признание со стороны:
«Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:
– Матрешишко, ты умри лучше!
– Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…»
Лишь самым большим художникам отпущено такое разумение «силы и смысла письма». С пронизывающим лаконизмом Шергина идет в сравнение разве немногословность одного из его прямых литературных учителей – Аввакума. Это на страницах читанного перечитанного писателем «Жития» жена протопопа Марковна, находясь на пределе физического изнеможения, находит в себе силы поддержать мужа простыми , незабываемыми словами: «… добро, Петрович, ино еще побредем».
Матрена Корелянина принадлежит к тысячам женщин, кто был в супружестве «помощниками неусыпающими, друзьями верными», кто в дни отходничества мужей «сельдь промышлял, сети вязал, прял, ткал, косил, грибы, ягоды носил», а еще вершил мужское поделье: «тес тесал, езы бил (перегораживал реки для семужьего лова. – А. Г.), кирпичи работал» – кто безвестно созидал богатство России. Их, безымянных, обойденных «монографическим» вниманием историков Отечества, – их, никогда высоко не мысливших о себе и так и не узнавших (хотя слагали они песни, причитания, пели былины, сказывали сказки!), что они цвет земли нашей, – разыскивал в поморской стороне и воскрешал словом своим к долгой жизни Борис Викторович Шергин. Подвижничество, верил он, должно служить для людей вечным образцом.
* * *
Писатель не раз говорил, что все его искусство – заимствование из языкотворчества трудящихся людей, что он прошел огромную школу освоения народного слова: «Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг „по морям и волнам“, на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера. Слушаю, как говорит народ и что говорит».
Шергин называл «северными художниками слова» рыбаков, лесорубов, заводских рабочих, в «картинную, насыщенную образами речь» которых писатель был влюблен.
Художественный мир Шергина заселен работниками разных ремесел, а потому профессиональные словари живут в языке Шергина. В очерке «Рождение корабля» от корабельщиков автор заимствует выражения: «Ель на воде слабее сосны», «Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны… и елы сшивая», «отворили паруса», «паруса обронив, бросили якоря». Из лексикона плотников берет он образ для пейзажной картины: «птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца» («Для увеселенья»). По мореходски уместно именует писатель путешествия «путеплаваниями» («Достояние вдов»). Шергин наглядно показывает, как обогащался национальный словарь лексикой, а слова оттенками в устах профессионалов. В новелле «Лебяжья река», посвященной труду мастеров росписи по дереву, приводятся рабочие (и вместе изысканнейшие!) эпитеты термины, обозначающие колеры исключительной нежности: «светло осиновый» и «тьмо лимонный». В рассказе «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание» маляр точнейше пользуется глаголами терминами: «краска должна вмереть в дерево», «лубочные картины… цветил ягодным соком».
Писателем ценилась непраздность народного слова, несущего в себе отраженный свет породившей его психологической ситуации. Как подлинный гимн слову народному воспринимается рассказ «Для увеселения», где два брата Личутины, выброшенные предзимней бурей на камни, перед лицом неотвратимой гибели вырезают на обломке корабельной доски эпитафию себе.
Для читателя очевидно, что память Шергина стала вместилищем многообразных культурных ассоциаций, которые жили в сознании начитанных поморов на рубеже прошлого и нынешнего веков, – всего того, что было фактически народной культурой, и это создает поразительное богатство стилистики его произведений.
В исповедально портретных монологах, где каждое слово, интонация были характеризующими, художник «до дна» раскрывал психологию героев («Рассказ Соломониды Ивановны», «Мимолетное виденье», «Митина любовь»).
При сравнительной оценке произведений мастера, уже переживших скоротечную славу некоторых сочинений его современников, припоминаются страницы шергинского «жизнеописания» маляра Василия Феоктистова Вопиящина. Оный Вопиящин рассказывал: «У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда… дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся… процедуре нашего письма. Он говорил: „Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов“.
Искусство Шергина не только долгие годы не утратит «колоритов» для поколений читателей, но и будет объектом всевозрастающего, пристального изучения со стороны новых поколений мастеров слова.
Работа Шергина над народным словом – это, как бы сказал Бажов, «дело мешкотное», а не рысистое. Но это дело прочное, надежное.
Ал. Горелов
Данило и Ненила
В некотором месте королешко был старой, утлой, только тем поддярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натакали знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра – Данилко да Митька, по матери Девичи.
Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала вралина был, рева и ябеда. Братья много из-за него деры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе.
Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок – под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек – чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточку-то уж не набавил.
А хоть сморчок -да королю сын. Куда поедет – на мягких подушках развалится, а Данило – красавец, да на облучке сидит.
Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника тросью:
– Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпают Соседка наша Ненила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-ти идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, дак сказывают. А добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных губерен под свою руку привела. Небось не спала!!
– Я, папенька, воевать боюсь.
– Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой надо взять… Ох, не мои бы годы!… Ненилка-та – красавица и молода, а сама себя хранит как стеклянну посуду. А работница! Бают, жать подет, дак двенадцать суслонов на упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм будет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.
– Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю.
– Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лакомой. Ей, по сказкам-то, матерого да умного надо. Испытанья каки-те назначат, физическу силу испытыват. Однако поезжай.
– Я Данилку возьму.
– Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!
– Адиеты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.
Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четыре. А у Данила каблуки отрубили. Дале – Федьке под сертук наложили ватны плечи и сверьху золоты аполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на прием к королевы. Дворец пондравился – большой, двоепередой, крашеной, с подбоями, с выходами.
Думали, впереди всех явятся, а в приемной уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:
– Королева принимают?
– Сичас коров подоят, и прием откроитсе.
А публика на Данила уставилась:
– Это какой державы богатырь?
Федьке завидно, командует на парня:
– Марш в сени!
А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы:
– Осударына, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Ихна держава с нашей – двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять.
– Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишко сменю.
Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:
– Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.
Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка – как Волга: бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит -дак половица гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит: «Вот дак жених -табачна шишка, лепунок…» И говорит:
– Твоя рабоча сила нать спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишну елку, чтобы окна не загораживала.
Федька затосковал, – ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:
– Стоит ли костюм патрать из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.
У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно зглянула, замерла:
– Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?
Королек сморщился:
– Я сказал, что мой кучер.
Зашумело, ель повалилась, Ненила пилу со стены сдернула:
– Побежу погреюсь. Роспилю чурку-другу.
Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь.
Утром королек торопит:
– Сударына, когда же свадьба?
– Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони-ти на волю спушшены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.
Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь – богатырю ездить – прикован, цепи звенят.
– Таких ли, – Федька говорит, – я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилко объездит.
Данило не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня. Видели – богатырь на коне сидит, а не видели повадки богатырские. Только видят: выше елей курева стоит, курева стоит, камни, пыль летят.
Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выбрали. Теперь на жеребца хоть ребенка сади.
Назавтра и Федька, разнаредясь, верхом проехаться насмелился. Конешно, Девич повода держал.
Советники к Ненилы накоротки заприступали:
– Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы…
– Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три поманите.
Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.
Веселилась, да прираздумалась, радовалась, да приуныла, пела, да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.
День кое-как, а ночью – соболино одеяло в ногах да потонула подушка в слезах:
– Данилушко, я твой лик скоро не позабуду!
И во сне уста сами собою именуют:
– Данилушко!
Данилушко не дурак, это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы осталися считанные.
Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать некогда. Он выговорил:
– Неужели, госпожа, ты моя да моя?!
– Уж и вправду, господине, твоя да твоя!!
И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.
Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:
– Ох, государыня… Конечно, Федька против Данилы – раз плюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев у-ю-ю!
Ненила заплакала:
– Ах вы, бессовестные хари! Я на двенадцати войнах была, разве мало земли добыла?!
Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали:
– Наша Ненила досюль была спяща красавица.
Данило ее разбудил. Пущай она дичат, как знат.
Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала травы сбрунец, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрунца Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу:
– Сию минуту сряжать королевну под венец!!
Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил Ненилу за руку:
– Госпожа! Ты помнишь ли?
Она долго на него смотрела:
– Ваша личность мне кабыть знакома…
Он заплакал навзрыд. Ушел к морю.
На обрученье Ненила только одно слово выговорила:
– Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!
Ей ни к чему, что возле-то Федька. Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать стали, невеста второ слово высказала:
– Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай зачем рядом стоит.
Тут весь народ и с попами по домам полетели:
– Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!
Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыскала Девича, шепчет ему:
– Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.
А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте уснула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит. По морю лед идет весенний, по молодецкому лицу – слезы.
И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шкворнем. Тело срыл в море.
Утром берег стал всплывать и город.
Федька ходит козырем:
– Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.
Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат:
– Я как сюда попала?
У Федьки живот схватило:
– Бы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши родные палестины-с!
Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила:
– Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут…
Она вдруг сделалась страшна, грозна:
– Где Данило Девич?!
– Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с пьяных глаз…
Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался и под шумок стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.
А Федька, как за стол-то воротился, думает: ничего никто не приметил. Глядь, Ненила подходит:
– Кого куда в лодке повезли?
– Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.
Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:
– Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!
На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к Федьке:
– Где Данило?!
Королек завертелся собакой:
– С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.
Матка опять во весь двор:
– Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где они?! Где мои рожоны дети?!
Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:
– Сказывай, вор, где ейны дети?!
Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:
– Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую чином и деньгами!
Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну снасть да как свистнет, свистнет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под онбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее, да на двух телегах и удрал неведомо куда.
Воля во всем стала Ненилина.
Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данилов поясок:
– Не иначе рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.
Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову черной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управленье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинохонька у окошка, голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:
Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под кажду бы лесинку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.
Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!
Народ-от мимо идут, дак заслушаются.
А Федьки королевна объявила:
– Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий в Митькино место.
Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет и считает, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, остановится и хвост подымет.
А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. Утром прикачало к берегу. А встать не может – ноги умерли с морозу. Федьки боится, в лес на коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И вдруг слышно – лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:
– Зверь али человек?!
И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу.
– Помрем лучше, братец, – говорит слепой, – кто нам рад, эким-то?
– По миру будем ходить, коли работать не заможем, – утешит безногой. – У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целой человек и станет. А теперь затянемся в тайболу, переждем, не обойдецце ли Федькино сердце.
Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:
– Право!… Лево!… Прямо!…
У глухого озера нашли избушку -от ветру, дождя схорониться. Связали из вичья морды-ловушки, рыбку промышляют.
Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.
Живут братья, быват, и месяц.
Оборвались, в саже умарались. Данило и сказыват:
– Вот что, Митя, зима этта пострашне будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала езжал. По дороге, все под юг идти, Федькиного отчишка летней дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра – шипучих минеральных вод, друга дыра – огнедышаща, подземну лаву выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменьем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станем-ко подвигаться.
У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует:
– Право!… Лево!… Прямо!…
Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трактову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица, тоненька, беленька, личушко как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:
– Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.
Девица покачала головой:
– Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А тепере королешко приехал, дак и близко ходить не велено.
– Старик приехал? Когда?
– Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле… Не стряслось ли чего в городе?
Данило весь стрепенулся – не моя ли там желанна воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл: кому я, увечной, надо?… Дале говорит:
– Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть серебряны, мы бы хлебы и постой оплатили.
Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отмениты, приятны, красивы, обходительны.
– У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не надо. Я портниха, зарабатываю.
Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.
Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, рассудительна. Данило и спрашивает:
– Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?
– Навеку не бывал. Только и видим – в усадьбу едет да оттуда.
– О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички – стали бы целы. Помрем лучше, Митька!
Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра принесла деревенски вести:
– Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья… Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?
– Брось, Агнея! Слушать негодно!
Вечером она срядилась по-праздничному:
– Я, братцы, к девушкам на игрище.
Вот и отемнало, люди отужинали, ей все нету. Митрий пошел к соседям:
– Сегодня игрище где?
– В страду что за игрища?!
Братья заплакали:
– Она туда ушла! Ушла ради нас!
А она и идет:
– Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром никак не взять, надо насильно.
Митька перебил:
– Ты, Агнея, с краю сказывай.
– Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька – зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от ограды труба и есть минеральная, дальня огненна. Крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.
– Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем – в долгу у тебя не останемся.
На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась – лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на короушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.
И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторопилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала:
– О, живот схватило!
Вылетела из дому – в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и – в сад:
– Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.
Старик в самом деле на лестнице ждет:
– Что долго?
– Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна.
Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило.
Старик всполошился:
– Что это?
– Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло – охотники в лесу стрелили.
Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует, В саду опять гременуло, люди забегали.
Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данило бросился туда ползунком, – лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы… Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:
– Митя, Митя!
А слепой уж тут, глаза полощет.
От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит – стал видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы – никого не испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит.
Агнею нашли, весело поздравились. Лакей – из тех, что со старичонком приехал, – выложил все новости.
Королевство под Ненилой, а под Федькой -коровы. А королевна Ненила каждый вечер Данила оплакиват – за версту слыхать.
Данило боле не терпит:
– Сегодня же в город!
Митрий добавлят:
– Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.
Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данило думал – встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навозны вороты и видит – Ненила, в черном платке, с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост призняла и Федька ей целует… Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:
– Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться??!
Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву ножечку, плачет да смеется:
– Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла по тебе!
Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука об руку – неделю с ним проговорила:
– Отступиться хочу здешнего осьего гнезда. Этта все не мое и сердце ни к чему на радет. А дома короушки, осударственно управление, огороды, мельница – все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вместях будем королевствовать. У нас место обширно – пашня тут и сенокос тут. Агнею с Митей утенем за собой. Агнюшка нас с мели сдернула.
Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. Матерь-та при них же. А Федька с отчишком и остались на бубях.
Дивный гудочек
У отца, у матери был сынок Романушко и дочка – девка Восьмуха. Романушко – желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза завидущие.
Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи. родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.
Матка им говорит однажды:
– Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.
Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.
В полдни стало жарко, солнечно.
У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются и те мелки и зелены.
Она и сдумала думку и говорит:
– Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать.
Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко… И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает, – положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:
– Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!
– Романушко где-ка?
– Заблудился. Его лесной царь увел.
Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили… Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.
Ходят по Руси веселые люди – скоморохи, народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек тесинку, сделал гудок с погудалом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:
Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Продрожье взяло скоморохов:
– Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!
А Вавило-скоморох говорит:
– В этом гудке велика сила и угодье.
Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:
– Пусти, хозяин, веселых людей – скоморохов!
– Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!
Вавило говорит:
– На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.
Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:
Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Мать-то услыхала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:
– Дайте мне! Дайте скорее!…
Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал:
Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Пала мать на пол, клубышком закаталась… И почто с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет!
Сошлась родня и вся порода, собрались порядовные соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:
– На-ко, ты играй!
Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:
Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем.
Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной…
Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое.
А Вавило говорит:
– Не плачьте! Ноне время веселью и час красоте! Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец, и народ запел:
Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!
И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям – скоморохам на славу.
Мартынко
Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жира была хорошая. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, дак все прошщали. С англичанами, с норвежанами на пристанях толь круто лекочет, не узнать, что русский. Годы подошли, взели на военную службу. Послали караульным в стару морску крепость. Место невесело, начальство строго, навеку бедной парень эдак не подчинялся, не покорялся.
Вон оногды на часах у складов и видит: подъехали конпания лодкой и учали в футбол играть. Мартына и раззадорило:
– Нате-ко меня!
Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать.
В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел и толь плотно сел, дак фельшер до вечера бился, добывал.
Мартынку утром суд. Перва вина, что благородной дамы в рот грезной футбол положил, втора вина – с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена – хлам, пыль, крысы, паутина. Бедной арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему исть. В углу стол. Не завалялось ли хоть сухаря в ящике? Дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул, – как огнем осветило – карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет:
– Тебе с огнем играть!!!
Тут на карты обзадорился, тут сели играть. И видит Мартынко – карты сами ходят, сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул.
Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: «Я этими картами жить зачну». Часовому долг простил, выгонил его, в потеменки раму вынял, железно прутье вышатал да окном и выпал.
Утром арестанта хватились, а он уже в городе, в порту похаживат. В портерной иностранного кептена присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном, – не то что деньги, с себя мундир проиграл. Мартынко говорит:
– За проигрыш перепехни меня за море на своем пароходе.
Вот Мартынко в заграничном городе разгуливат по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынко один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустил: «Мне это низко, желаю по своим капиталам в высшее общество». Заказал брюки клеш, портянки сатиновы, нанял такси:
– Вези в трактир, куда первостатейны господа ездят.
Ну, завезли в самолучшей ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета.
«А что тако, – думат Мартын, – нисколько не совестно за свои деньги…»
– Эй, молодцы, бутылку водки!
Чтобы ловкость показать – и штопору не взел, а по-мужицки о долонь половинкой как хватит. Пробка соседке в плеш, водка соседу во что ешь… Тотчас вся зала заверешшала, налетели господа с орденами в лентах:
– Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распивать!…
– На свои пью, не на ваши!
– Ты понимаешь, куда забрался? Этта генералитет, а которы есть и министры, чай пить соизволяют.
Король приворачиват. Этта рюмка водки рублем пахнет.
Потащили бажоного вон за шиворот. Бажоный затужил:
– Вот как! Вот как!! Набывался в высшем свете.
За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул:
– Предлагаю сразиться в картишки.
Эких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенна публика и коней и кореты, и одежду и штиблеты. Мартынко икни брюки да сертуки нафталином посыпат да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит:
– Содвигай столы! Угощаю пострадавших за свой счет!
Этим генералам да профессорам все одно делать нечего. Голой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтобы костюм послали, у кого телефона нет, – с запиской лакея турнули, а сами сели закусить. Мартынко выпил и отмяк:
– Друзья! Наша игра не более как милая штука. На фига мне ваши клячи да кареты. Получай обратно ламбардны квитанции. Пущай всяк при своем!
Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел да и растянулся на полу.
Дежурной генерал с докладом к королю:
– Явился в ресторане субъект, с первого взгляду малостоющий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил.
Король говорит:
– Эта личность где сейчас?
– Где гулял, тамотки и повалился.
Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашиват лакеев:
– Где-ка гостя-то положили?
– Они сами под стол удалились.
Мартына рострясли, душетырного спирту дали понюхать, в сознание привели. Король с им за ручку поздоровался:
– Мимо ехал – и вдруг жажда одолила, не иначе с редьки. К счастью, вспомнил про этот лесторан.
Мартынко осмелел:
– Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание с выпитием рюмочки при надлежашшей закуске.
– Ха-ха-ха! Вы в состоянии короля угошшать?
Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол наносили. Король сколько сам уписыват, боле в чемодан складыват:
– Деточкам свезу гостинчика.
– Не загружайте тары эким хламом, ваше величие. Есть у нас кока с соком в чемодан ложить.
– Это вы не про карты ли?
– Имеются и карты.
Король колоду позадевал:
– Этих картов я и на всемирной выставки не видел.
Сели за зелено сукно. И проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Тогда расстроился:
– Тошнехонько машины жалко. Летось на именины ото всей инперии поднесена…
– Ваше величие! Папаша всенародной! Это все была детская забава. Велите посторонним оставить помещение.
Король выпнул публику, заложил двери на крюк, подъехал к Мартынку. Нас бы с вами на ум, Мартына на дело. Говорит:
– Ваше велико! Держава у вас – место самое проходное. В силу вашего географического положения пароходов заграничных через вас плывет, поездов бежит, еропланов с дипломатами летит ужасти сколько. Никакому главному бухгалтеру не сосчитать, сколько через вас иностранного купечества со своима капиталами даром пролетит и проплывет… Ваше велико! Надеюсь, вы убедились, кака сила в моих картах… Поручите мне осударственну печать, посадите меня в главно место и объявите, что без пропуска и штенпеля нету через вашу границу ни пароходу проходу, ни ероплану пролету, ни на машине проезду… Увидаете, что будет.
Король троекратно прокричал ура и объявил:
– Министром финанцевым быть хошь?
– Велите, состоим-с!
– Завтра в обед приходи должность примать.
Отвели под Мартына семиэтажной дом, наголо окна без простенков. По всем заборам наклеили, что «через нашу державу без пропуска и министерской печати нет ни пароходу проходу, ни на ероплане пролету, ни на машине проезду».
Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу.
Иностранно купечество, дипломаты – все тут. Новый министр пока штемпель ставит, свои карты будто ненароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что наличность у Мартына оставит – сколько дома есть денег, все телеграфом сюда выпишет.
Ну, Мартынкино королевство разбогатело. Сотрудникам пища пошла скусна. Ежедень четыре выти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащи завседенно треплют.
Однако соседним государствам ужасно не понравилось, что Мартынко у них все деньги выманил. Взяли подослали тайных агентов – какой бы хитростью его потушить.
Тут приходит вот како дело рассказать. У короля была дочерь Раиска. И она с первого взгляду влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынко речь говорит или доклад делат, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет, из журналов Мартынкины портреты вырезат да в альбом клеит. Уж так его абажат. А она Мартыну ни на глаза. Он ей видеть не может, бегом от ей бегат. Однажды при публике выразился:
– Эту Раиску увижу, меня так блевать и кинет!
Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайны агенты других держав и довели до сведения Раиски… Любовь всегда слепа. Несчастна девица думала, что ейна симпатия из-за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасну истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрелин и упала в обморок.
Как в себя пришла, агенты говорят:
– Вот до чего довел вас этот тиран. Конешно, дело не наше, и мы этим не антиресуимся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главно место посадил. Вот дак министр с ветру наскочил! И вас своими секретами присушил. Такого бы без суда в нужнике давно надо утопить. Но мы вас научим…
Утром получат Мартынко записку:
«Дорогой министр финанцев! Пожалуте выпить и закусить к нам на квартеру антиресуимсе каки таки у вас карты известная вам рая».
Мартынко этой Раи боитсе, а не идти неможно, – что он у ней с визитом не бывал.
Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угошшения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду. А Раиска речь пересекла:
– Я слыхала, у вас карты есь бутто бы золоты? Я смала охвоча карты мешать.
И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой – все продула гостю.
Тут он домой сторопился:
– Однако поздно. На прошшанье дарю вам обратно ваши уборы. Мне-ка не нать, а вам от папы трепка.
А Раиска нахальне:
– Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы.
– Как это фальшивы?
Она искусственно захохотала:
– А вот эк!
Выхватила колоду да к себе под карсет.
– Докуль у меня рюмку-другу не выпьете, дотуль не отдам.
Делать нечего. Дорогой гость две-три рюмочки выкушал и и пал на ковер. В графине было усыпаюшшее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного догола и кошелек нашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в лес и хвоснули в овраг, куда из помойных ям вываливают.
На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил:
– О, будь ты проклята, королевнина гостьба! Куда теперь подамся, нагой, без копейки?
Како-то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думат: «Плох я сокол, что ворона с места сбила».
И видит: яблоки растут белого цвету.
– Ах, как пить охота!
Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.
Вот дак приужахнулся бедный парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:
– Что на меня за беды, что на меня за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря у дикого. О, задавиться ли, утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хичныма хехенами и со львами.
Во слезах пути-дороженьки не видит и наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки красненьки, красивы.
– Объистись разве да умереть во младых летах?…
Сгрыз яблоко, счавкал друго, – головы-то ловко стало. Рукой схватился и рога, как шапочку, сронил. Все тело согрелось, сердце звеселилось и напахнула така молодось, дак Мартын на голове ходить годен.
Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: этих красных молодильных яблоков нарвал, воротился на старо место, рогатых яблоков натряс, склал за пазуху и побежал из лесу.
Дорога в город повела, а Мартынко раздумался:
«В эдаких трепках мне там нельзя показаться. В полицу заберут».
А по пути деревня, с краю домик небольшой – и старуха кривобока крыльцо пашет. Мартынко так умильно:
– Бабушка, дозвольте в ызбу затти обогреться. Не бойтесь этих ремков, меня бродяги ночесь раздели.
Старуха видит: парень хоть рваной, а на мазурика не похож – и запустила в кухню. Мартынко подает ей молодильного яблока:
– Баба, на-ко съешь!
Баба доверилась и съела.
– Парень, чем ты меня накормил, будто я вина испила?
Она была худа, морщевата, рот ямой; стала хороша, гладка, румяна.
– Эта я ли? Молодец, как ты меня эку сделал? Мне ведь вам нечем платить-то!
– Любезна моя, денег не надо. А нет ли костюма на мой рост – мужнева ли, братнева ли? Видишь, я наг сижу.
– Есь, дитетко, есь!
Отомкнула сундук.
– Это сынишка моего одежонка. Хоть все понеси, андел мой, благодетель!… Оболокайся, я самоварчик согрею.
Мартыну гостить некогда. Оделся в простеньку троечку и в худеньки щиблеты, написал на губы усы, склал свои бесценны яблоки в коробок и пошел в город.
У Раискиных ворот увидал ейну стару фрелину:
– Яблочков не прикажете-с?
– Верно, кисляшши.
– Разрешите вас угостить.
Подал молодильного. Старой девки лестно с кавалером постоять. Яблоко на обе шшоки лижот. И кряду стала толста, красна, красива. Забыла спасибо сказать, полетела к королевны:
– Раичка, я-та кака!
– Машка, ты ли? Почто эка?
– Мушшина черноусой яблочком угостили. Верно, с этого… У их полна коробка.
– Бежи, ростыка, догоняй. Я куплю, скажи: королевна дорого даст!
Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машки:
– Это для барыни. Высший сорт. Пушшай едят на здоровье. За деньжонками потом зайду.
Раиска у себя в опальны зеркалов наставила, хедричество зажгла, стала яблоки хряпать:
– Вот чичас буду моложе ставать, вот чичас сделаюсь тельна, да румяна, да красавица…
Ест яблоко и в зеркало здрит и видит – на лбу поднелись две россохи и стали матеры, и выросли у королевны рога долги, кривы, кабыть оленьи.
Ну, уж эту ночку в дому не спали. Рога те и пилой пилили, и в стену она бодалась – все без пользы.
Как в зеркало зглянет, так ей в омморок и бросат.
Утром отправили телеграмму папаше, переимали всех яблочных торговцев, послали по лекарей.
Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Срядился эким профессором и с узелочком звонится у королевиной квартеры:
– Не здесь ли больная?
– Здесь, здесь!
Раиска лежит на постели, рошшеперя лапы, и рога на лямках подвешаны. Наш дохтур пошшупал пуп – на месте ли, спросил, сколько раз до ветру ходила, и были ле дети, и были ле родители, и не сумашеччи ле были, и папа пьюшшой ле, и кака пинтература?
Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в темя колотил и дышать не велел. Тогда говорит:
– Это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съись два куска мыла и ташшыте в баню на снимок.
Она ела– ела, тогда заревела:
– О, беда, беда! Не хочу боле лечицца-а! Лучче бы меня на меленки смололи-и, на глину сожгали, на мыло сварили-и!
Тут Мартын выгонил всех вон и приступил накоротки:
– Я по своей практике вижу, что за некотору подлось вам эта болесь!
– Знать ницего не знаю, ведать не ведаю.
Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, зачал ей драть ремнем:
– Признавайся, дура, не обидела ле кого, не обокрала ле кого?!
– О, виновата, тепере виновата!
– В чем виновата?
– У тятенькиного министра карты высадила.
– Куда запехала?
– Под комод.
Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки:
– Ешь эти яблоки!
– О, боюсь, боюсь!
– Ешь, тигра рогатая!
Она яблоко съела, – рога обмякли и отпали; друго съела – красавица стала.
Была черна, суха, стала больша, красна, налита!
Мартынко взглянул, и сердце у него задрожало. Конешно, против экой красоты кто же устоит! Глядел, глядел, дале выговорил:
– Соблаговолите шайку воды.
Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала, – где стояла, тут и села. Мартынко ей:
– Рая, понапрасну вы на меня гору каменну несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а тепериче страстно абажаю.
Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли.
Вот и живут. Мартынко всех в карты обыгрыват, докуль этих карт не украдут. Ну, а украдут, опять и выпнут Мартына.
Пойга и Лиса
Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана [Кулимана, шведка Кулимана – В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кулимана».] , дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит – на воде карбас, в нем спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.
Пойга испугался красоты этой девицы:
– Ты не звезда ли утренница?
Она засмеялась:
– Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.
– Чья же ты?
– Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.
Пойга взмолился к ней:
– Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку.
Он к ловушкам поспешил к своим – туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой будет подарок для девицы».
И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:
– Пойга, милый, отдай мне моих детей!
Он говорит:
– На что много плачешь, Лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.
Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой…
Пойга опять идет вниз по реке.
На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:
– Ты на кого детей-то бросила?
Лисица говорит:
– Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею.
Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит:
– Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?
– У меня серебряных копеек пять.
Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:
– Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку-четверик: хочет жито мерить.
– Возьми.
Лисина принесла мерку в шатер, запихала в заклеп две серебряные денежки и несет мерку обратно:
– Государыня Устьянка, дай меру побольше – четвериком мерить долго.
Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:
– Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое «жито» меряют, хитряги!
Лиса опять там в полмеру за обруч влепила три серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала, спрашивает:
– Для какого случая зерно-то меряли?
– Жениться собирается.
– Пожиточному человеку что собираться? Посватался – и все.
– Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.
Вдова говорит:
– Надобно жениха-то в лицо поглядеть.
Ведет Лисица Пойгу на смотрины и думает: «Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем». А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.
На сухое место выбрался, заплакал:
– Испугается меня теперь невеста. Скажет, черт из болота вылез…
А Лиса над ним впокаточку хохочет:
– Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежу принесу.
Лисица к Устьянке прилетела:
– Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел.
Вдова зашумела на Лису:
– Как это назад пошел?! Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.
Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях:
– Ты виду не показывай, что мы встречались.
Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василькового сукна, с серебряными пуговками.
Вдова и шепчет Лисе:
– Что это жених-то только на себя и смотрит?
Лисица отвечает:
– Он в соболях, в куницах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.
Вдова и говорит Пойге:
– Ну, добрый молодец, сидишь ты – как свеча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне и дочке по уму, по сердцу, Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твое житье– бытье.
Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то шведка схватила.
А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:
– Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывем смотреть житье женихово. Не забудь взять в карбас корабельный рог.
Вот плывет дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались мешкотно: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.
На заре на утренней Лисица говорит:
– Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.
Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи.
В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел – затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.
А Лисица верещит:
– Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!
Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет:
– Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?
Лиса говорит:
– Твои слуги-кнехты где?
Кулимана вопит:
– Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.
Лиса говорит:
– Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку.
Кулимана толста была, еле запихалась в бочку. Лисица сверху крышку вбила:
– Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.
А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет. Лиса к нему бежит:
– Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну– ка, гостьюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.
Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва.
Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.
Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:
– Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и тебе помощница.
Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он ее детей помиловал.
Пронька Грезной
Были три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил больши капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит:
– Пока сила да здоровье позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, покамест славы не добуду.
Братья запричитали:
На кого ты нас оставляешь,
на кого ты нас покидаешь?!
Мы ростом-то велики,
а умом-то мы малы.
Уж мы лягем да не вовремя,
уж мы встанем да не во пору!
Расстроили старшого:
– Разорвало бы вас, как жалобно сказываете… Вот вам тысячу золотых на разживу.
Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали:
– Дорогой брат и благодетель! Ежели не секрет, в каку ты державу прависсе?
– Надумано у меня в российски города.
– Дорогой брат и благодетель! И нам в Америки не антиресно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.
– Россия страна обширна. Хотите – поезжайте, хотите – нет.
Вслед за старшим братом приезжают эти молоды американы в Питербурх. Сидят в гостиницы, головы ломают, на како бы дело напуститься. Увидали на столе календарь. В календаре на картины царь написан с дочерями. Эти дочери пондравились.
– Давай посватаимся у царя! Вдруг да наше счастье?
Послали во дворец сватью. А царские дочки были самовольны и самондравны. Кажна по четыре кукиша показала:
– Мы в женихах-то, как в навозе, роемся. Князьев да прынцов помахивам. На фига нам твои американы, шваль такая!
Младша добавила:
– Не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна.
Так эта любовь до времени кончилась. Теперь пойдет речь за старшим братом. Он тоже посиживат на квартиры, рассуждат сам с собой:
– Годы мои далеко, голова седа, детей, жены нету, денег не пропить, не происть. Нать диковину выкинуть всему свету на удивленье.
В торговой день от скуки он пошел на толкучку и видит – молодой парень ходит следом и глаз не спускат.
Через переводшика спросил, что надо. Парень не смутился:
– Очень лестно на иностранной державы человека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт-с…
Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подает парню трешку:
– Выпей в честь Америки!
А тот на портфель обзарился, Навеку столько денег не видал. Американину смешно:
– Верно, нравятся богатые люди?
– Бедны никому не нравятся.
– Имя ваше как?
– Пронькой ругают.
– Зайдите, мистер Пронька, вечером поговорить ко мне на квартиру.
В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягки кресла:
– Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жадность к деньгам и надумал держать с тобой пари. Я, американской гражданин, строю на главном пришпехте магазин, набиваю его разноличными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, розживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай… За это ты, мистер Пронька, пятнадцать лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенны будут твои торговы книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти пятнадцать лет хоть однажды рукавом утрессе, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через пятнадцать лет хоть во ста миллионах будь, все твое бесповоротно. Далее, как ученой человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте!
Мистер Пронька говорит:
– Живой живое и думает. Согласен.
К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати.
Дело, значит, не шутово.
Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами… Первы-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получат, товары отпускат – из кожи рвется, торгует. В пять годов он под себя дом каменной – железна крыша – поставил. К десяти годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил двум своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте.
День за днем, год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки – чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишша свалялась, лохмотья висят. Летом дождик попадат на голову-то и мытье.
Год за год хлебошшится в грязи, только и порадуется, что над деньгами. А денег – всей конторой считают.
Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозну кучу, повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К двенадцати-то годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот каку силу мужичонко забрал!
Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, вшей вычислят, каждогодно насчет Проньки сочиненье издават. В американских тиматографах стали шевелюшших Пронек показывать. Ну, экой бы славы не все рады.
Год за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли.
Тут соседни державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо ерапланы клеить, выпускать удушливы газы. А казна порозна.
Царь Проньки записку:
– Одолжите полдесятка миллиончиков.
Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил:
– Ты что, сопля пропашша, куражиссе? Как хошь, давай денег!
– Никак не могу, ваше величие! Вы и так в долгу, что в море, – ни дна, ни берегов.
– Хошь, я тебя, бандита, енералом пожалую?
– Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать.
– Что ты, овин толстой! Что ты, вшива биржа! Да поглядись-ко ты в зеркало…
– В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша, царская, а большина наша, купецкая.
У царя губы задрожали:
– Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропашша!… А у меня девки-то три, котора нать?
– Каку пожалуете.
– Тогда хоть патрет сресуй увеличенной с твоей рожи. Я покажу, быват, котора и обзарится. Только имей в виду – в теперешно время нету настояшшого художника. Наресуют, дак зубы затрясет.
За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме.
Пронька со страху прослезился:
– Сатаной меня написали… Знают, как сироту изобидеть… Уж и кажной-то меня устрашится, уж и всяко-то меня убоится!…
Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет:
– Вот, дорогие дочери! Есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, аригинальный старичок, зато комерсант богатеюшшой.
Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом – все напрасно. Друга дочка сперва тоже заревела, дале сграбилась за раму да с размаху родителю на голову и падела…
Младша дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры навертыват:
– Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грезишша да волосишша, он тебя обажать будет нельзя как лучче…
Девка его пересекла:
– Плевать я хотела, что там обажать да уважать! Ты мне справку подай, в каких он капиталах, кака недвижимость и что в бумагах!…
Она с отчишком зашумела. В те поры старша из подпечка выбралась да к середней сестры катнула:
– Сестрича, голубушка, татка-то одичал, за облизьяна за шорснатого замуж притугинива-а-ат! Убежим-ко во болота во дыбучи, а мы схоронимся в леса да во дремучи!
– В дыру тебя с лесом! Мы в Америку дунем. Черт ли навозного лаптя лизать, когда нас американы дожидаются.
У старшухи слезы уж тут:
Ох, чужедальня та сторонушка,
Она слезами поливана,
Горьким горем огорожена…
– Реви, реви, корова косая! Вот уже таткин облизьян обнимать придет.
– О, не надо, не надо!
– Не надо, дак выволакивай чемоданы, завязывай уборы да сарафаны! А я фрелину к тем понаведаться сгоняю.
Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили да и были таковы. Дале и повенчались и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться. Жены рады, что от Проньки ушли.
Царь как узнал, что дочки к американам упороли, только для приличия поматерялся, про себя-то доволен, что на свадьбу изъяниться не нать.
Тут Пронькины пятнадцать годов на извод пришли. У него мыло просто и душисто пудами закуплено, мочалок, веников, дресвы возами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморны умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов.
В последний нонешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул.
Радось за радосью – царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки нареченной жених говорит:
– Итак, через полмесяца свадьба. В венчальной день публика увидит неожиданной суприз.
На друго утро он снял под себя городски бани на две недели и пригласил двенадцать человек баншиков и двенадцать паликмахтеров. И вот бани топятся, вода кипит, аки гром гремит, баншики в банны шайки, в медны тазы позванивают. Паликмахтеры в ножницы побрякивают.
Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шшолоком, прокатывали мылами семи сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили.
В венчальной день двенадцать портных наложили царскому жениху трахмальны манишки, подали костюм последней париской моды, лаковы шшиблеты и прочее.
И как показался экой жентельмен на публику, дак никто буквально не узнал. А узнали, дак не поверили. Он явился, как написаной, бравой, толстой, красной, очень завлекательной. Царевна одночасно экого кавалера залюбила. До того все козой глядела, а тут приветлива сделалась, говорунья. Свадьба была – семь ден табуном плясали, лапишшами хлопали, пока в нижной этаж не провалились, дак ишшо там заканчивали.
А Пронькин американин, приехавши на родину, не избежал некоторой неприятности. Американска власть на его заобиделась, что пятнадцать лет в России потратил, эдаки деньги на вшивого мужичонка сбросал.
– Неужели, – власть говорит, – ты за эстолько лет не мог его соблазнить хоть раз сопли утереть?
Тогда достойной субъект показал им пятнадцать научных изданных томов насчет Проньки. Также открыто спросил:
– Разве вы не в курсе, что две особы императорской фамилии вышли замуж за американов и принели американску веру?
Власти говорят:
– Это мы в курсе. Вот этот случай – велика честь. Америка гордицца теми двумя молодцами.
– Дак эти два молодца мои родны братья. Кабы не я да не мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы!
Публика закричала «ура», тем и кончилось.
Шиш Московский
Шишовы напасти
Жили в соседях Шиш Московский да купец.
Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая, – на первом венце порог, на втором – потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется.
Именья у Шиша – для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.
Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.
У купца свинья живет,
двести пудов сала под шкурой несет
да пудов пятьдесят соли в придачу.
Все равно – совру наудачу —
и так никто не поверит…
У купца соха в поле сама о себе пашет,
а годовалый ребенок мельничный жернов
с ладошки на ладошку машет.
А две борзых суки мельницу на гору тянут,
а кляча ихну работу хвалит, себе на спину
мельницу валит, кряхтит да меня ругает.
– Мне, – говорит, – твое вранье досаждает!
Всего надобно впору,
а ты наплел целу гору!
Это, светы мои, присказка, а дело впереди.
Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть не на чем. Пришел к купцу, конается:
– Не даите ли коняшки в лес съездить?
Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил.
– Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?
– Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хомута?
– Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо? А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?
Так и не дал хомута.
Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал большашшой воз, привязал кобыле за хвост да как зыкнет… Лошадь сгоряча хватила да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего делать!
Повел кобылу к хозяину:
– Вот получите лошадку. Покорнейше благодарим-с!
Купец и увидел, что хвоста нет:
– Лошадку привел? Иде она, лошадка?
– Вот-с, извиняюсь…
– Это, по-вашему, лошадка? А я думал – зайчик, без фоста дак… Только и у зайчика намечен известной фостик, а тут фостика нет… Может, это ведьмедь?! Но мы ведьмедев боимся!…
В суд, в город, того же дня поташшил купец Шиша.
Надо идти по мосту. Железнодорожный мост матерушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его дума думу побиват:
«Засудят… Сгноят в остроге… Лучше мне скорополучно скончачче, стукнучче об лед да…»
Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через перила… А под мостом по льдю была дорога. И некоторой молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб…
Несчастной сын сгреб Шиша -да тоже в суд.
Тут кряду отемнело, до городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь перележать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы… Ворочался да с полатей-то и оборвался. А под полатеми зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.
Едет Шиш на суд. Грустно ему:
– Прости, прошшай, белой свет! Прошшайте, все мои друзья! Боле не видачче!
Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить… На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.
У судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое россказыват, в аду бедному Шишу места не дает…
Судья выслушал, зарычал на Шиша:
– Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?
Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!… Это он мне золото сулит…»
И говорит:
– Какой несимпатичный факт!… Выдернуть у невинной животной фост… Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашую кобылу и держит ее, докуль у ей фост выростет… Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.
Подкатился отецкой сын. Судья спрашивает:
– Ты пошто ревишь? На кого просишь?
– Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.
– Как так?
– У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!
Судья брови насупил:
– Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя…
Шишанко опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото судят.
И говорит:
– Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу… Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно… Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать… Получите…
Безутешный отец выскочил перед судью:
– Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить… Оной злодей унистожил дитятю. Рехал-рехал на полатях, дале грянул с вышины, не знай с какой целью, зыбку – в шшепы и, конечно, дитятю.
Шиш затужил, а платок с камнем судьи кажет. Судья ему мигат – понимаю-де, чувствую… И говорит:
– Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как-то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?
– Молода, всем на завидось она!
– Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить, не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят… Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.
Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух. Шиш говорит купцу:
– Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.
– Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки!
– Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!
– Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.
– Давай четыреста!
Поладили.
Шиш взялся за отецкого сына:
– Ну, теперь ты, рева Киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай…
– Братишка, помиримся!
– Желаю согласно вынесенного приговора!
– Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины – не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми, чем хошь. Мне своя жисть дороже.
– Давай коня с санями, которы из-под папы, дак и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.
Сладились и с этим. Шиш за третьего взялся:
– Ну, ты сегодня же присылай молодку!
– Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.
– Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми…
Плачет, да платит. Жена дороже. Только все разошлись, из суда выкатился приказной – и к Шишу:
– Давай скоре!
– Что давай?
– Золото давай скоре, судья домой торопится.
– Како золото, язи рыба?!
– А которо из-за пазухи казал…
– Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судьи грозил, что, мол… так -да так, а нет – намеки излишны. Пониме?
Приказного как ветром унесло. Судье докладыват Шишовы слова… Тот прослезился:
– Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!
Судное дело Ерша с Лещом
Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.
Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.
Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут лещи – старожилы, тут Лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит:
– Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное…
Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.
А Ерш ночь ночевал, и две ночевал… Год жил, и два жил!… И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей, как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.
С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова до покрова. И по этой лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.
Судья – рыба Сом с большим усом – сидит нога на ногу.
Говорит Лещ:
– Вот, господин судья… Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я за его сиротство, ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал. Год жил, и два жил… И теперь ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их, что лютые рогатины. И они по озеру нахвально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей Лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!
Говорит судья – рыба Сом:
– Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро ваше, лещово?
Лещ говорит:
– Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.
Спрашивает судья Ерша:
– Ты, ответчик Ерш, шлесся ли на таковых Лещовых свидетелей, Семгу да Сига?
Ерш отвечает:
– Слаться нам, бедным людям, на таковых самосильных людей, Семгу и Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.
Судья говорит:
– Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает… Еще какие у тебя есть свидетели-посредственники?
Лещ говорит:
– Еще знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под городом Питером.
Спрашивает судья Сом:
– Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?
Ерш в уме водит: «Рыба Налим – у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо, ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдет на суд. А Щука – она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».
И Ерш говорит:
– Честна вдова Щука да батюшко Налим-то общая правда, на тех шлюся.
Посылает судья – рыба Сом – Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.
Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшку Налима искать. День искали и два искали, не пили не ели и спать не валились. На третьи сутки -день к вечеру, солнце к западу – увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворотили – под колодиной батюшко Налим сидит.
Елец– стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:
– Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья – рыба Сом с большим усом – во славное озеро Онего во свидетели.
– О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне идтить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы -далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна… Нате вам по гривенке. Не иду на суд!
Привели на суд Щуку.
Суд завелся.
Вот судья – рыба Сом – сгремел на Ерша:
– Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?
И Ерш ответ держит:
– У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишке были сенишки, в сенишках была клетишка, а в клетишке сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги, и грамоты, и судные записи, что озеро Онего – наша, ершова вотчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи – все сгорело, ничего вытащить не могли.
В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:
– Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка, кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!
А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хорошему да опять свое звонит:
– Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатях бобры, под полатями ковры – и то все пригорело… А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют…
И честна вдова Щука не стерпела:
– Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят – не столько наедят, сколько расплюют.
И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:
– Вот тебе раз! Другой бабушка даст!
И Щука запастила во весь двор:
– Караул, убивают! А озеро Онего век было Лещово, а не Ершово! Лещово, а не Ершово!
Судья возгласил:
– Быть по сему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.
Ерш в ответ:
– На ваши суды плюю и сморкаю!
И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братии, только его и видели.
Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща в дому все окончательно выхвостал…
Из Онега-озера Ерш на Белоозеро, с Белаозера в Волгу-реку.
Река Волга широка и долга.
Стоит в Волге-реке Осетер. Тут Осетрова вотчина и дедина.
Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:
– Ой еси, рыба Осетер! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит. Родителям вашим царство небесное…
А рыба Осетер хитра и мудра. Она знает Ерша.
– Не пущу!
Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.
Ерш придумывает: «Рыба Осетер хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетер в гости пойдет и невода не минует».
Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком смешалась.
Стали люди поговаривать:
– О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили…
Люди невод сшили, стали рыбу промышлять. А рыба Осетер хитра-мудра: видит, вода мутна – и она дома сидит, в гости не ходит.
Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.
– Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и приду тебя, Осетра, убивать.
Пошел Ершишко обедать да и попал в невод. Из невода в медный котел. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша… Сказка вся, больше врать нельзя.
Варвара Ивановна
У Якуньки была супруга Варвара Ивановна.
И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет:
– Варвара Ивановна, спи!
Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:
– Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите.
Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби.
Опять муж скажет:
– Варя, испекла бы пирожка.
– Не стоишь, вор, пирогов.
А скажет:
– Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь…
Она три ведра напекет:
– Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!
Муж скажет:
– Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?
– Нет, к эдакой моське не пойдем.
Он другомя:
– Сегодня сватья на именины звала. Я сказал – не придем.
– Нет, хам, придем. Собирайся!
У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:
– Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу?
– Это хозяйская дочь. Правда, красавица?
– А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.
Муж не знат, куда деться:
– Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.
– Почтеннейший?… А по виду дак жулик, казнокрад.
Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает:
– Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.
– Все хвалят, а я плюю в твой пирог.
И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало.
Который человек обрадуется угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.
Мода пришла – стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара наросьне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташшит. Вот кака Варвара Ивановна была: хуже керосина. Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался:
– Ах ты… проваль тебя возьми! Запехать разве мне ей на службу. Может, шелкова бы стала?
Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат.
А ежели объявят:
– Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без опозданиев…
Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит.
Настанет праздник какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит.
Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить.
Оногды идет он со службы, а домой неохота. И видит: дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.
– Дяденька, подвези!
За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:
– В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!
Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился:
– Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!
– Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.
Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, задью пятится.
К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:
– Мои ягоды!
– Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!
Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом три пачки папирос:
– Прости, дорогая!
Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не страмит. Самоварчик наставил, сидит, радуется:
– Вот кака жисть пошла приятная!
Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:
– Где супруга?
– Дачу искать уехала.
– Смотри у меня!
Якунька до полусмерти напугался:
– Лучче побежу я добывать свою Варварку.
С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат… Писк, визг слыхать…
…А вот и Варин голосок…
Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал. Начал удить:
– Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!
Удит и чует, что дернуло. Конец высбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала:
– Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!
– Вы из каких будете?
– Я Митроба, по-деревенски Икота. Мы этта в грезной ямы хранились, митробы, иппузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жорет, я с табаку угорела. О, кака беда! Хуже сулемы эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты!
Якунька слушат да руками хлопат:
– Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по причине начальства приходится доставать.
– Якуня, плюнь на их на всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.
– Что делать-то будем?
– Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары я тебя наделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утробам. За меня дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.
Якунька шапку о землю:
– Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!
Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет купила да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:
– По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра барыну понарядне да в ей и зайду.
– Как зайдешь-то?
– Ротом. С пылью ле с едой.
– А мне что велишь?
– Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.
Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейной муж схватил газету, каки есть дохтора? И читает: «Проездом из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни выживаю».
Полетели по адресу. Якунька говорит:
– Условия такая. Вылечу – сто рублей. Не вылечу – больной платы просит.
Наложил на себя для проформы шлею с медью. Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила:
– Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!
Якуньке совестно за эту знакому:
– Ладно, ладно! Уваливай отсель!
Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто рублей выносят.
Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов быват пятнадцать.
Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянну строить зачал, думал – и век так будет. Однако на сем свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.
Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а Икота зауросила:
– Находилась более, нагулялась!… Пристала вся!
Якуня тоже расстроился:
– Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?
– Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я присмотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я тебя, знахаря-шарлатана, по суд подведу. Якунька удобел:
– Ну, дак извод с тобой, боле не приду. Не дотрону тебя, чертовку!
Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.
А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраньях всех становит. Речь говорит – часа по два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире открыла, Митроба ей туда и сиганула.
Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку.
Якунька всеми ногами упирается:
– Хоть к ераплану меня привяжите – нейду! Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял:
– Науке известны такие факты. Есь подлы люди. Наведут, дак в час свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.
Другой профессор говорит:
– И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситер возрос. Пушшай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситера полдела выжить.
Третий профессор воздержался:
– Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень – и то на девицу доказать может.
Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани парят, а больна прихворнула пушше.
Знакомы советуют:
– Нет уж, вам без американского дохтура не сняцца.
К Якуньки цела делегация отправилась:
– Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не воротимсе.
Якунька весь расслаб:
– От вот каких денег я отказываюсь!… Сам без прахтики живу, в изъян упал.
Он говорит:
– Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.
Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал два часа тридцать семь минут. Тогда объявил:
– Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:
– Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла.
Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, бабы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна.
Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат… Митроба на его зарычала:
– Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, для хамлета, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!
Якунька на ей замахался:
– Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. Тебя ишшет!
У Митробы зубы затрясло:
– Я боюсь, боюсь!… Где она, Варвара-та?
Якунька раму толкнул, рукой махнул:
– Она вон где!
Как только на улице этот знак увидали, сейчас натобили загудели, транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массыя открыли рот и грянули:
– Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!
Икота из барыни как пробка вылетела:
– Я-то куды?
– Ты, – говорит Якунька, – лупи обратно в яму. Варвара туда боле не придет!
Народ думают – пулей около стрелили, а это Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.
А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко…
Волшебное кольцо
Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оногды с этими деньгами, видит – мужик собаку давит:
– Мужичок, вы пошто шшенка мучите?
– А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.
– Продай мне собачку.
За копейку сторговались. Привел домой:
– Мама, я шшеночка купил.
– Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!
Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.
– Мужичок, вы пошто опять животину тираните?
– А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.
– Продай мне.
Сторговались за две копейки. Домой явился:
– Мама, я котейка купил.
Мать ругалась, до вечера гудела.
Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки.
Идет, а мужик змею давит.
– Мужичок, што это вы все с животными балуете?
– Вот змея давим. Купи?
Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:
– Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.
Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:
– Мама, я змея купил.
Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:
– Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира не отделана.
Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скарапея.
Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить:
– Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!
Змея по дороги – и Ванька за ей. Змея в лес – и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока стена городова с воротами. Змея говорит:
– Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.
Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:
– Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не беря. Проси кольцо одно – золотно, волшебно.
Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.
– По-настояшшему, – говорит, – вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.
Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.
Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо в пальца на палец. Выскочило три молодца:
– Што, новой хозеин, нать?
– Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да…
Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:
– Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?
– Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!
– Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!
Матка в анбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула.
– Ваня, откуда?
Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матера платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.
Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят. Опять Ванька и говорит:
– Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?… Поди, сватай за меня царску дочерь.
– Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?!
– Иди сватай, не толкуй дале.
Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу наложила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу:
– Здрасте, ваше велико, господин анператор. У вас товар, у нас купец. Не отдаите ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?
– И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?
Мать на ответ:
– Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.
Царица даже чай в колени пролила:
– Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем женихово житье смотреть.
Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:
– Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила…
– На! Неужели не согласны?
– Обрадовались… Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут жанихово житье смотреть.
– Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.
Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:
– Што, новой хозеин, нать?!
– Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскими палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.
Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:
– Халера бы их взела с ихной непрерывкой… То субботник, то воскресник, то ночесь работа…
А Ванькина семья с вчера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились… На! што случилось!… Лежат на золоченных кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят… Толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.
– Ну, мама, – Ванька говорит, – оболокись помодне да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.
Мама сарафанишко сдернула, барыной наредилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул, – она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:
– Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.
Царь к окошку, глазам не врит:
– Мост?! Усохни моя душенька, мост!…
По комнаты забегал:
– Карону суда! Пальте суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.
Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат… А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:
– Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу все покорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать…
Царь не знат, што делать:
– Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?
Царица руками-ногами машет:
– Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!
Тут вся свита зауговаривала:
– Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!
Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.
Царя да царицу той же минутой укачало – они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью, середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:
– Ох, тошнехонько… Ох, укачало… Ух, растресло, растрепало… Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.
Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сеноторов в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:
– Супруг любезной, ну откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!
Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он заспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:
– Што, нова хозейка, нать!…
– Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.
Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежной избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут.
А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:
– Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той бляди Ванькино кольцо добывать.
Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.
Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.
Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось – как попасть? Собака не долго думат:
– Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну.
Кошка говорит:
– Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.
– Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!
Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:
– Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!
Кошка ответить некак, рот занет…
Берег недалеко. Собака опеть:
– Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца!
Кошка и бякнула:
– Да не уроню!
Колечко в воду и булькнуло…
Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются.
Собака шумит:
– Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!
Кошка не отстават:
– Последня тварь – собака! Собака и по писанью погана… Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!
А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:
– Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.
Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись да свое кольцо и нашли…
Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.
Собака домой, а кошка к тюрьмы.
По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:
– Кыс-кыс-кыс!!
Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:
– Што, новой хозеин, нать?!
– Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.
Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.
А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.