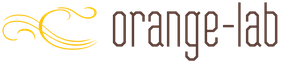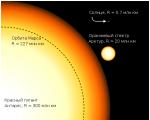Жюстина или несчастная. Жюстина, или несчастная судьба добродетели
Маркиз Де Сад
Жюстина, или Несчастья добродетели
«Да, я распутник и признаюсь в этом, я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но не преступник и не убийца… Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель.»
Маркиз де Сад
«Кстати, ни одной книге не суждено вызвать более живого любопытства. Ни в одной другой интерес - эта капризная пружина, которой столь трудно управлять в произведении подобного сорта, - не поддерживается настолько мастерски; ни в одной другой движения души и сердца распутников не разработаны с таким умением, а безумства их воображения не описаны с такой силой. Исходя из этого, нет ли оснований полагать, что „Жюстина“ адресована самым далеким нашим потомкам? Может быть, и сама добродетель, пусть и вздрогнув от ужаса, позабудет про свои слезы из гордости оттого, что во Франции появилось столь пикантное произведение».
Из предисловия издателя «Жюстины» (Париж, 1880 г.)
«Маркиз де Сад, до конца испивший чащу эгоизма, несправедливости и ничтожества, настаивает на истине своих переживаний. Высшая ценность его свидетельств в том, что они лишают нас душевного равновесия. Сад заставляет нас внимательно пересмотреть основную проблему нашего времени: правду об отношении человека к человеку».
Симона де Бовуар
РОМАНЫ МАРКИЗА ДЕ САДА В КОНТЕКСТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ
Великий французский писатель и мыслитель Маркиз де Сад (1740 - 1814) предвосхитил интерес западной культуры XX века к проблеме эротики и сексуальности, показав в своих книгах значение эротического и сексуального инстинкта и зафиксировав различные формы их проявления, тем самым в определенной степени наметив проблематику эротической и сексуальной стихии в творчестве Г. Аполлинера, С. Дали, П. Элюара, А. Арго, Л. Бунюэля, Э. Фрейда, Э. Фромма, И. Бергмана, Ф. Феллини, Ю. Мисима, Г. Маркузе, А. Камю и других.
Г. Аполлинер, открывший Сада, выказался о нем как о самом свободном из когда-либо существовавших умов. Это представление о Саде было подхвачено сюрреалистами. Ему отдали дань А. Бретон, нашедший у него «волю к моральному и социальному освобождению», П. Элюар, посвятивший восторженные статьи «апостолу самой абсолютной свободы», С. Дали, придающий, по его собственным словам, «в любви особую цену всему тому, что названо извращением и пороком». Это было в основном эмоциональное восприятие. В книгах Сада сюрреалистов увлек вселенский бунт, который они сами мечтали учинить; Сад стал для них символом протеста против ханжеской морали и был привлечен на службу «сюрреалистической революции». В действительности Маркиз де Сад хотел того, чего не может дать простая перестройка, чего нельзя добиться изменением материальных и относительных условий; он хотел «постоянного восстания духа», интимной революции, революции внутренней. В ту эпоху он хотел того, что сегодняшняя революция уже не считает «невозможным», а полагает как исходный пункт и конечную цель: изменить человека. Изменить его окончательно и бесповоротно, изменить любой ценой, ценой его «человеческой природы» и даже ценой его природы сексуальной и прежде всего ценой того, что в нашем обществе сформировало все отношения между людьми, сделало их неестественными и объединило любовь и целостность в одной катастрофе, в одной бесчеловечности.
Маркиз де Сад, на наш взгляд, является прежде всего человеком, одаренным гениальной научной фантазией. Фантазия - это то, что позволяет с помощью фрагмента реальности воссоздать ее целиком. Сад, исходя из рудиментарных проявлений собственной алголагнии, без помощи какого-либо предшественника, причем с самого начала достигнув совершенства, построил гигантский музей садо-мазохистских перверсий. Жиль Делез считает, что «В любом случае Сад и Мазох являются также и великими антропологами, подобно всем тем, кто умеет вовлекать в свой труд некую целостную концепцию человека, культуры, природы, - и великими художниками, подобно всем, кто умеет извлекать из небытия новые формы и создавать новые способы чувствования и мышления, некий совершенно новый язык». Настойчивость, с какою Сад всю свою жизнь исследовал исключительно извращенные формы человеческой природы, доказывает, что для него важно было одно: заставить человека возвратить все зло, которое он только способен отдать. Сад внес вклад в постепенное осознание человеком самого себя, иначе говоря, если прибегнуть к философскому языку, способствовал его самосознанию: уже сам термин «садист», обладающий универсальным значением, - убедительное свидетельство этого вклада. Инстинкты, описанные в «Жюстине» и «Жюльете», теперь имеют право гражданства. Ницше дал на это единственно достойный ответ: если страдание и даже боль имеют какой-то смысл, то он должен заключаться в том, что кому-то они доставляют удовольствие. Никто не станет отрицать, что жестокость героев «Жюстины» или «Жюльеты» неприемлема. Это - отрицание основ, на которых зиждется человечество. А мы должны так или иначе отвергать все, что имело бы своей целью уничтожить творения своих рук. Таким образом, если инстинкты толкают нас на разрушение того, что мы сами создаем, нам следует определить ценность этих инстинктов как губительную и защищать себя от них. Порочный человек, непосредственно предающийся своему пороку, - всего лишь недоносок, который долго не протянет. Даже гениальные развратники, одаренные всеми задатками, чтобы стать подлинными чудовищами, если они ограничатся тем, что будут всего лишь следовать своим наклонностям, обречены на катастрофу (Ц. Борджа, Казанова, Берия, Гитлер и др.). Можно, конечно, читать Сада, руководствуясь проектом насилия, но его можно читать также, руководствуясь принципом деликатности. Утонченность Сада не является ни продуктом класса, ни атрибутом цивилизации, ни культурным стилем. Она состоит в мощи анализа и способности к наслаждению: анализ и наслаждение соединяются в непостижимой для нашего общества экзальтации, уже в силу этого представляющей собой самую главную из утопий. Насилие прибегает к коду, которым люди пользовались на протяжении тысячелетий своей истории; возвращаться к насилию значит продолжать пользоваться тем же речевым кодом. Постулируемый Садом принцип деликатности может составить основу абсолютно нового языка, неслыханной мутации, призванной подорвать сам смысл наслаждения.
Маркиз Де Сад
Жюстина
"Да, я распутник и признаюсь в этом, я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но не преступник и не убийца... Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель."
Маркиз де Сад
"Кстати, ни одной книге не суждено вызвать более живого любопытства. Ни в одной другой интерес - эта капризная пружина, которой столь трудно управлять в произведении подобного сорта, - не поддерживается настолько мастерски; ни в одной другой движения души и сердца распутников не разработаны с таким умением, а безумства их воображения не описаны с такой силой. Исходя из этого, нет ли оснований полагать, что "Жюстина" адресована самым далеким нашим потомкам? Может быть, и сама добродетель, пусть и вздрогнув от ужаса, позабудет про свои слезы из гордости оттого, что во Франции появилось столь пикантное произведение".
Из предисловия издателя "Жюстины" (Париж, 1880 г.)
"Маркиз де Сад, до конца испивший чащу эгоизма, несправедливости и ничтожества, настаивает на истине своих переживаний. Высшая ценность его свидетельств в том, что они лишают нас душевного равновесия. Сад заставляет нас внимательно пересмотреть основную проблему нашего времени: правду об отношении человека к человеку".
Симона де Бовуар
РОМАНЫ МАРКИЗА ДЕ САДА В КОНТЕКСТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ
Великий французский писатель и мыслитель Маркиз де Сад (1740 - 1814) {Ерофеев В. Маркиз де Сад, садизм и XX век//Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 225-255; Альмера. Маркиз де Сад/Пер, с итал. М.. 1991. 160 с. Маркиз де Сад и XX век/ Пер. с франц. М., 1992. 256 С.} предвосхитил интерес западной культуры XX века к проблеме эротики и сексуальности, показав в своих книгах значение эротического и сексуального инстинкта и зафиксировав различные формы их проявления, тем самым в определенной степени наметив проблематику эротической и сексуальной стихии в творчестве Г. Аполлинера, С. Дали, П. Элюара, А. Арго, Л. Бунюэля, Э. Фрейда, Э. Фромма, И. Бергмана, Ф. Феллини, Ю. Мисима, Г. Маркузе, А. Камю и других.
Г. Аполлинер, открывший Сада, выказался о нем как о самом свободном из когда-либо существовавших умов. Это представление о Саде было подхвачено сюрреалистами. Ему отдали дань А. Бретон, нашедший у него "волю к моральному и социальному освобождению", П. Элюар, посвятивший восторженные статьи "апостолу самой абсолютной свободы", С. Дали, придающий, по его собственным словам, "в любви особую цену всему тому, что названо извращением и пороком". Это было в основном эмоциональное восприятие. В книгах Сада сюрреалистов увлек вселенский бунт, который они сами мечтали учинить; Сад стал для них символом протеста против ханжеской морали и был привлечен на службу "сюрреалистической революции". В действительности Маркиз де Сад хотел того, чего не может дать простая перестройка, чего нельзя добиться изменением материальных и относительных условий; он хотел "постоянного восстания духа", интимной революции, революции внутренней. В ту эпоху он хотел того, что сегодняшняя революция уже не считает "невозможным", а полагает как исходный пункт и конечную цель: изменить человека. Изменить его окончательно и бесповоротно, изменить любой ценой, ценой его "человеческой природы" и даже ценой его природы сексуальной и прежде всего ценой того, что в нашем обществе сформировало все отношения между людьми, сделало их неестественными и объединило любовь и целостность в одной катастрофе, в одной бесчеловечности.
Маркиз де Сад, на наш взгляд, является прежде всего человеком, одаренным гениальной научной фантазией. Фантазия - это то, что позволяет с помощью фрагмента реальности воссоздать ее целиком. Сад, исходя из рудиментарных проявлений собственной алголагнии, без помощи какого-либо предшественника, причем с самого начала достигнув совершенства, построил гигантский музей садо-мазохистских перверсий. Жиль Делез считает, что "В любом случае Сад и Мазох являются также и великими антропологами, подобно всем тем, кто умеет вовлекать в свой труд некую целостную концепцию человека, культуры, природы, - и великими художниками, подобно всем, кто умеет извлекать из небытия новые формы и создавать новые способы чувствования и мышления, некий совершенно новый язык" {Делез Ж. Представление Захер-Мазоха/ Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах/ Пер. с франц. М., 1992. С. 192-193.}. Настойчивость, с какою Сад всю свою жизнь исследовал исключительно извращенные формы человеческой природы, доказывает, что для него важно было одно: заставить человека возвратить все зло, которое он только способен отдать. Сад внес вклад в постепенное осознание человеком самого себя, иначе говоря, если прибегнуть к философскому языку, способствовал его самосознанию: уже сам термин "садист", обладающий универсальным значением, - убедительное свидетельство этого вклада. Инстинкты, описанные в "Жюстине" и "Жюльете", теперь имеют право гражданства. Ницше дал на это единственно достойный ответ: если страдание и даже боль имеют какой-то смысл, то он должен заключаться в том, что кому-то они доставляют удовольствие. Никто не станет отрицать, что жестокость героев "Жюстины" или "Жюльеты" неприемлема. Это - отрицание основ, на которых зиждется человечество. А мы должны так или иначе отвергать все, что имело бы своей целью уничтожить творения своих рук. Таким образом, если инстинкты толкают нас на разрушение того, что мы сами создаем, нам следует определить ценность этих инстинктов как губительную и защищать себя от них. Порочный человек, непосредственно предающийся своему пороку, - всего лишь недоносок, который долго не протянет. Даже гениальные развратники, одаренные всеми задатками, чтобы стать подлинными чудовищами, если они ограничатся тем, что будут всего лишь следовать своим наклонностям, обречены на катастрофу (Ц. Борджа, Казанова, Берия, Гитлер и др.). Можно, конечно, читать Сада, руководствуясь проектом насилия, но его можно читать также, руководствуясь принципом деликатности. Утонченность Сада не является ни продуктом класса, ни атрибутом цивилизации, ни культурным стилем. Она состоит в мощи анализа и способности к наслаждению: анализ и наслаждение соединяются в непостижимой для нашего общества экзальтации, уже в силу этого представляющей собой самую главную из утопий. Насилие прибегает к коду, которым люди пользовались на протяжении тысячелетий своей истории; возвращаться к насилию значит продолжать пользоваться тем же речевым кодом. Постулируемый Садом принцип деликатности может составить основу абсолютно нового языка, неслыханной мутации, призванной подорвать сам смысл наслаждения.
Идеи и мысли одного из самых проницательных и пугающих умов Франции Маркиза де Сада глубоко осмыслил и трансформировал в своем творчестве С. Дали. Он постоянно читал и перечитывал книги Сада и вел с ним своего рода диалог в своих картинах и писаниях {Дали С. Дневник одного гения/Пер, с франц. М., 1991, 240 с. Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали/Пер, с франц.. М., 1993. 320с.}. Многие из картин Дали, с характерным для него стремлением - свойственным и Саду - рационалистически упорядочить не подлежащий упорядочению мир неконтролируемых, иррациональных, подсознательных порывов души, содержат садический элемент ("Осеннее каннибальство", "Одна секунда до пробуждения от сна, вызванного полетом осы вокруг граната", "Юная девственница, содомизирующая себя своим целомудрием".). Садические мотивы звучат также в творчестве М. Эрнста, ("Дева Мария, наказывающая младенца Иисуса в присутствии трех свидетелей: Андре Бретона, Поля Элюара и автора"), К. Труя, писавшего картины непосредственно по мотивам романов Сада. Садический "привкус" ощущается также в драматургии теоретика "театра жестокости" А. Арто, стремившегося обновить театральные каноны путем введения навязчивых тем кровосмешения, пыток и насилия. Достойным продолжателем садических традиций в XX веке являлся гениальный японский писатель Ю. Мисима ("Золотой храм"). Эротика и секс были жизнерадостной религией надежды для Г. Миллера ("Тропик Рака") и В. Набокова ("Лолита").
Известный испанский режиссер Л.Бунюэль испытал огромное влияние произведений Сада. На примере Бунюэля мы убедимся в магическом воздействии книг Сада: "Я любил Сада. Мне было более двадцати пяти лет, когда в Париже я впервые прочитал его книгу. Книгу "Сто двадцать дней Содома" впервые издали в Берлине в небольшом количестве экземпляров. Однажды я увидел один из них у Ролана Тюаля, у которого был в гостях вместе с Робертом Десносом. Этот единственный экземпляр читал Марсель Пруст и другие. Мне тоже одолжили его. До этого я понятия не имел о Саде. Чтение весьма меня поразило. В университете Мадрида мне практически были доступны великие произведения мировой литературы - от Камоэна до Данте, от Гомера до Сервантеса. Как же мог я ничего не знать об этой удивительной книге, которая анализировала общество со всех точек зрения - глубоко, систематично - и предлагала культурную "tabula rasa". Для меня это был сильный шок. Значит в университете мне лгали... Я тотчас пожелал найти другие книги Сада. Но все они были строжайше запрещены, и их можно было обнаружить только среди раритетов XVIII века. Я позаимствовал у друзей "Философию в будуаре", которую обожал, "Диалог священника и умирающего", "Жюстину" и "Жюльету"... У Бретона был экземпляр "Жюстины", у Рене Кревеля тоже. Когда Кревель покончил с собой, первый, кто пришел к нему, был Дали. Затем уже появились Бретон и другие члены группы. Немного позднее из Лондона прилетела подруга Кревеля. Она-то и обнаружила в похоронной суете исчезновение "Жюстины". Кто-то украл. Дали? Не может быть. Бретон? Абсурд. К тому же у него был свой экземпляр. Вором оказался близкий Кревелю человек, хорошо знавший его библиотеку" {Бунюэль о Бунюэле/Пер, с франц. М., 1989, С. 240}
"Эротизм выступает у Сада в качестве единственного надежного средства общения", - считает С. де Бовуар, а Камю констатирует: "Сад знал только одну логику - логику чувств" {Маркиз де Сад и XX век. С. 167; Камю А. Бунтующий человек/Пер. c франц. М.; 1990. С. 145.}. Действительно, Сад во всех своих творениях проповедует чувственную модель любви. В частности, Жюльетта является олицетворением комплекса "Мессалины". Этот комплекс присущ женщине страстной, чувственной, сексуально возбудимой, предъявляющей повышенные эротические требования к партнеру, меняющей партнеров, оргаистической{Были периоды, когда сексуальные качества женщины ценились высоко. Сегодня также считается привлекательным образ женщины чувственной, ибо, по мнению многих, это самое главное в браке, подробно см.: Лев-Старович 3. Секс в культурах мира./Пер. с польск. М., 1991.}. Секс в современной культуре стал иным, он на пороге новых изменений. Освобождение Эроса, по мнению Г. Маркузе, ведет к освобождению человечества, а сексуальная близость облагораживается любовью. Поэтому современная культура должна пройти через проблематику Сада, вербализировать эротическую стихию, определить логику сексуальных фантазий.
Р.Рахманалиев
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вступление. - Жюстина брошена на произвол судьбы
Шедевром философии явилась бы книга, указующая средства, коими пользуется фортуна для достижения целей, которые она предназначает человеку, и сообразно этому предлагающая некоторые формы поведения, кои научат это несчастное существо о двух ногах шагать по тернистому жизненному пути, дабы избежать капризов этой самой фортуны, которую поочередно называли Судьбой, Богом, Провидением, Роком, Случайностью, причем все эти имена, без исключения, настолько же порочны, насколько лишены здравого смысла и не дают уму ничего, кроме непонятных и сугубо объективных мыслей.
Если же несмотря на это случается, что, будучи исполнены пустого, смешного и суеверного уважения к нашим абсурдным общепринятым условностям, мы встречаемся лишь с терниями там, где злодеи срывают только розы, разве не естественно, что люди, от рождения порочные по своему внутреннему устройству, вкусу или темпераменту, приходят к убеждению, что разумнее предаться пороку, нежели сопротивляться ему? Не имеют ли они достаточных, хотя бы внешне, оснований заявить, что добродетель, как бы прекрасна она ни была сама по себе, бывает тем не менее наихудшим выбором, какой только можно сделать, когда она оказывается слишком немощной, чтобы бороться с пороком, и что в совершенно развращенный век наподобие того, в котором мы живем, самое надежное - поступать по примеру всех прочих? Уж если на то пошло, не имеют ли люди, обладающие более философским складом ума, права сказать, вслед за ангелом Иезрадом из "Задига"{"Задиг", повесть Вольтера}, что нет такого зла, которое не порождало бы добро, и что, исходя из этого, они могут творить зло, когда им заблагорассудится, поскольку оно в сущности не что иное, как один из способов делать добро? И не будет ли у них повод присовокупить к этому, что в общем смысле безразлично, добр или зол тот или иной человек, что если несчастья преследуют добродетель, а процветание повсюду сопровождает порок, поскольку все вещи равны в глазах природы, бесконечно умнее занять место среди злодеев, которые процветают, нежели среди людей добродетельных, которым уготовано поражение?
Не будем более скрывать, что именно для подтверждения этих максим мы собираемся представить на суд публики историю жизни добродетельной Жюстины. Необходимо, чтобы глупцы прекратили восхвалять этого смешного идола добродетели, который до сих пор платил им черной неблагодарностью, и чтобы люди умные, обыкновенно в силу своих принципов предающиеся восхитительным безумствам порока и разгула, утвердились в своем выборе, видя убедительнейшие свидетельства счастья и благополучия, почти неизменно сопровождающие их на избранном ими неправедном пути. Разумеется, нам неприятно описывать, с одной стороны, жуткие злоключения, обрушиваемые небом на нежную и чувствительную девушку, которая превыше всего ценит добродетель; с другой стороны, неловко изображать милости, сыплющиеся на тех, которые мучают или жестоко истязают эту самую девушку. Однако литератор, обладающий достаточно философским умом, чтобы говорить правду, обязан пренебречь этими обстоятельствами и, будучи жестоким в силу необходимости, должен одной рукой безжалостно сорвать покровы суеверия, которыми глупость человеческая украшает добродетель, а другой бесстрашно показать невежественному, вечно обманываемому человеку порок посреди роскоши и наслаждений, которые его окружают и следуют за ним неотступно.
Вот какие чувства движут нами в нашей работе, и руководствуясь вышеизложенными мотивами и употребляя самый циничный язык в сочетании с самыми грубыми и смелыми мыслями, мы собираемся смело изобразить порок таким, какой он есть на самом деле, то есть всегда торжествующим и окруженным почетом, всегда довольным и удачливым, а добродетель тоже такой, какой она является - постоянно уязвляемой и грустной, всегда скучной и несчастной.
Жюльетта и Жюстина, дочери очень богатого парижского банкира, четырнадцати и пятнадцати лет соответственно, воспитывались в одном из знаменитейших монастырей Парижа. Там у них не было недостатка ни в советах, ни в книгах, ни в воспитателях, и казалось, их юные души сформировались в самой строгой морали и религии.
И вот в пору, роковую для добропорядочности обеих девочек, они лишились всего и в один день: ужасное банкротство швырнуло их отца в такую глубокую пропасть, что он вскоре скончался от горя; спустя месяц за ним последовала его жена. Участь сироток решили двое дальних и равнодушных родственников. Их доля в наследстве, ушедшем на погашение долгов, составила по сто экю на каждую; никто о них не позаботился, перед ними открылись двери монастыря, им вручили жалкое приданое и предоставили свободу, с которой они могли делать все, что угодно.
Жюльетта, живая, легкомысленная, в высшей степени прелестная, злая, коварная и младшая из сестер, испытала лишь радость оттого, что покидает темницу, и не думала о жестокой изнанке судьбы, разбившей ее оковы. Жюстина, более наивная, более очаровательная, достигшая, как мы отметили, возраста пятнадцати лет, одаренная характером замкнутым и романтичным, сильнее почувствовала весь ужас своего нового положения; обладая удивительной нежностью и столь же удивительной чувствительностью в отличие от сестры, тяготевшей к искусствам и к утонченности, она вместе с тем отличалась простодушием и добросердечием, которые должны были завести ее во множество ловушек.
Эта юная девушка, обладательница стольких высоких качеств, обладала и красотой известных всем прекрасных девственниц Рафаэля. Большие карие глаза, наполненные сиянием чистой души и живым участием, нежная гладкая кожа, стройная гибкая фигурка, округлые формы, очерченные рукой самого Амура, чарующий голос, восхитительный рот и прекраснейшие в мире глаза - вот беглый портрет нашей младшей прелестницы, чьи необыкновенные прелести и нежные черты недоступны для нашей кисти; если даже наши читатели представят себе все, что может создать самого соблазнительного их воображение, все равно действительность окажется выше.
Обеим девочкам дали двадцать четыре часа, чтобы покинуть монастырь. Жюльетта хотела осушить слезы Жюстины. Видя, что ничего у нее не получается, она, вместо того, чтобы утешать, принялась ее ругать. Она упрекала ее в чрезмерной чувствительности; она ей сказала с философской рассудительностью, несвойственной ее возрасту, которая доказывала в ней опасное брожение самых причудливых сил природы, что не стоит ни о чем печалиться в этом мире; что в самой себе можно найти физические ощущения достаточно острые и сладострастные, способные заглушить голос моральных угрызений, которые могут привести к болезненным последствиям; что этот метод тем более заслуживает внимания, что истинная мудрость скорее заключается в том, чтобы удвоить свои удовольствия, нежели в том, чтобы увеличивать свои горести; что не существует ничего на свете запретного, если это поможет заставить замолчать свою коварную чувствительность, которой преспокойно пользуются другие, между тем как нам самим она доставляет одни лишь печали.
- Смотри, - сказала она, бросаясь на кровать перед сестрой и заголяясь до пупка, - вот как я делаю, Жюльетта, когда меня одолевают печальные мысли: я ласкаю сама себя... я кончаю... и это меня утешает.
Тихая и добродетельная Жюстина пришла в ужас от такого зрелища; она отвернула взор, а Жюльетта, продолжая массировать свой маленький восхитительный бугорок, говорила сестре:
- Ты - дурочка, Жюстина; ты красивее меня, но никогда ты не будешь так счастлива, как я.
Скоро, не прекращая своего занятия, юная распутница испустила вздох, и ее горячее семя, выброшенное перед опущенными глазами добродетели, мгновенно осушило источник слез, которые, без этого поступка, она возможно пролила бы по примеру своей сестры.
- Глупо беспокоиться о будущем, - продолжала между тем сладострастная дева, садясь подле Жюстины. - С нашими фигурами и в нашем возрасте мы ни за что не умрем с голоду.
По этому случаю она напомнила сестре о дочери их прежних соседей, которая, рано сбежав из родительского дома, превратилась в богатую содержанку и, уж конечно, теперь живет много счастливее, чем если бы осталась в семейном лоне.
- Следует остерегаться мысли о том, - прибавила она, - что девушку делает счастливой брак. Попав в лапы Гименею, она, будучи расположенной страдать, может рассчитывать на очень малую дозу наслаждения, зато, окунувшись в либертинаж, она всегда в состоянии уберечь себя от коварства любовника или утешиться множеством поклонников.
Жюстина содрогнулась от этих речей. Она сказала, что скорее предпочтет умереть, чем согласиться на бесчестье, и увидев, что сестра твердо вознамерилась ступить на путь, который ее ужасал, отказалась устроиться вместе с ней, несмотря на все старания Жюльетты.
Таким образом девушки расстались, не обещав вновь свидеться, как только стали ясны окончательно их противоположные намерения. Да разве согласилась бы Жюльетта, которой предстояло сделаться светской дамой, принимать бедную девчушку, чьи склонности, добродетельные, но приземленные, могли бы ее обесчестить? Со своей стороны, захотела бы Жюстина подвергнуть опасности свои нравы в обществе извращенного создания, которое станет жертвой распутства и публичного позора?
Теперь с разрешения читателя мы покинем эту маленькую распутницу и постараемся рассказать о событиях жизни нашей целомудренной героини.
Как бы нам ни твердили, что миру нужно совсем немного добродетели, гораздо приятнее для биографа описывать в персонаже, чью историю он хочет поведать, черты доброты и бескорыстия, нежели непрестанно направлять мысль на разврат и жестокость, что будет принужден делать тот, кто в своем еще не написанном романе развернет перед нами чрезвычайно скандальное и столь же непристойное жизнеописание безнравственной Жюльетты.
Итак, Жюстина, которую в детстве любила портниха ее матери, в надежде, что эта женщина посочувствует ее несчастью, отправляется к ней, рассказывает ей о своих злоключениях, просит у нее работу... Ее почти не узнают и грубо прогоняют прочь.
- О небо! - так говорит бедняжка. - Неужели тебе угодно, чтобы первые же шаги, которые я сделала в этом мире, ознаменовались огорчениями?.. Эта женщина любила меня когда-то, почему же сегодня она меня отталкивает? Увы, очевидно дело в том, что я - бедная сирота, что у меня нет больше ничего, а людей уважают только ради тех выгод, которые собираются из них извлечь.
Жюстина, обливаясь слезами пошла к своему священнику; она со всем жаром своего возраста описала ему свое отчаянное положение. По этому случаю она оделась в белое узкое платьице, ее красивые волосы были небрежно забраны под большим мадрасским платком; только-только намечающаяся грудь почти не выделялась под двойной газовой тканью, которая прикрывала ее от нескромного взора; ее прелестное личико было несколько бледным по причине снедающих ее печалей, зато слезинки, то и дело набегавшие ей на глаза, придавали им еще большее очарование... Словом, невозможно было выглядеть прекраснее,
- Вы видите меня, сударь, - обратилась она к святому отцу, - в положении, весьма плачевном для молодой девушки. Я потеряла отца и мать; небо отобрало их у меня в возрасте, когда мне больше всего нужна их помощь; они умерли разоренными, сударь, - и у меня больше никого нет. Вот все, что они мне оставили, - продолжала она, показывая двенадцать луидоров, - и негде мне преклонить мою бедную голову. Вы ведь пожалеете меня, не правда ли, сударь? Вы - служитель религии, а религия - обитель всех добродетелей; во имя Бога, о котором она говорит и которого я обожаю всеми силами своей души, во имя Всевышнего, чьим слугой вы являетесь, скажите мне, как второй отец, что мне делать и чем мне заниматься?
Милосердный священник, разглядывая Жюстину в лорнет, ответствовал, что его приход переполнен, что вряд ли он сможет принять новую прихожанку, но что, если Жюстина желает служить у него, желает делать тяжелую работу, в кухне для нее всегда найдется кусок хлеба. И поскольку, говоря это, служитель Господа принялся потихоньку поглаживать ей юбку на ягодицах, словно для того, чтобы составить для себя какое-то представление о их форме, Жюстина, разгадавшая его намерение, оттолкнула его со словами:
- Ах, сударь, я не прошу у вас ни милости, ни места служанки; слишком мало времени прошло с тех пор, как я рассталась с положением, более высоким, чем то, которое может заставить меня принять оба ваших великодушных предложения; я прошу у вас советов, в которых нуждается моя молодость и мои несчастья, а вы хотите потребовать за них слишком высокую плату.
Служитель Христа, устыдившись своего разоблачения, поднимается в гневе; он призывает племянницу и служанку:
- Гоните прочь эту маленькую мерзавку, - кричит он. - Вы не представляете себе, что она мне предлагала... Сколько пороков в таком возрасте! И надо же осмелиться предложить эти гадости такому человеку, как я!.. Пусть она убирается... пусть убирается, иначе я заставлю ее арестовать!
И несчастная Жюстина, отвергнутая, униженная, оскорбленная с самого первого дня, когда она была обречена на одиночество, зашла в дом с вывеской над дверью, сняла маленькую меблированную комнатку на пятом этаже, оплатила ее вперед и, оставшись одна, разразилась слезами, тем более горькими, что она была очень чувствительна от природы и что ее гордость только что перенесла жестокий удар.
Однако это было лишь начало всех тех невзгод, больших и малых, которые заставила испытать ее злосчастная судьба. Бесконечно много на свете негодяев, которые не только не сжалятся над несчастьями благонравной девушки, но будут искать способ удвоить их для того, чтобы заставить ее служить страстям, внушаемым им безудержно развратной натурой. Однако из всех бед, которые пришлось ей испытать в начале своей злосчастной жизни, мы поведаем лишь о тех, что выпали на ее долю в связи с Дюбуром, одним из самых жестоких и в то же время самых богатых откупщиков налогов в столице.
Жюстина, или Несчастья добродетели. Преступления любви, или Безумства страстей
Жюстина, или Несчастья добродетели
Тот не преступник, кто изображает Поступки, что Природа нам внушает.
Введение. Брошенная Жюстина
Подлинной философии следовало бы состоять в том, чтобы раскрывать все способы и средства, которыми располагает Провидение для достижения целей, возложенных им на человека, и вслед за тем намечать какие-то черты поведения для несчастного, идущего по тернистой дороге жизни, предостерегать его против всяких причудливых капризов того, что называют то Судьбой, то Роком, то Предопределением, то Случаем, хотя все эти определения столь же ошибочны, сколь и лишены здравого смысла и только затмевают рассудок.
Так, полные пустого, смешного, суеверного почтения к нашим абсурдным условностям, мы, добродетельные люди, встречаем только тернии там, где злодеи срывают розы. Порочные от рождения или ставшие таковыми разве не убеждаются, что они правы, когда больше рассчитывают на уступку пороку, нежели на сопротивление ему? И нет ли известной правоты в их утверждениях, что добродетель, сколь бы прекрасной она ни была, слишком слаба, чтобы победить порок, что в этой борьбе она испытывает жесточайшие удары, и не лучше ли в наш развращенный век поступать так, как поступает большинство? Не правы ли те, кто, ссылаясь на ангела Жерада или Задана, утверждают, что всякое зло непременно служит добру и, следовательно, погружение в порок является лишь одним из способов творить добрые дела? И не правы ли они, прибавляя к этим рассуждениям еще и то, что природе абсолютно безразличны наши моральные принципы и поэтому гораздо лучше быть преуспевающим злодеем, чем погибающим героем?
И вот – нимало не скрывая этого – только для того, чтобы подкрепить эти рассуждения, решаемся мы представить публике историю добродетельной Жюстины. Пора наконец дуракам перестать кадить этому смешному идолу добродетели, который расплачивался с ними до сих пор только неблагодарностью. Согласимся, что ужасно рисовать с одной стороны те сокрушительные несчастья, которые Небо обрушивало на существо прелестное и чувствительное, несомненно, заслуживающее лучшей участи, а с другой – изображать тот поток благодеяний, который изливался на мучителей и истязателей нашей героини. Но писатель достаточно мудрый, чтобы провозглашать истину, пренебрегает этими трудностями и, будучи жестоким по необходимости, смелой рукой срывает все занавесы, которые пошлость набрасывает на фигуру добродетели, и показывает человеку, не ведавшему, как он обманут, все радости и сладости того, что глупцы и пошляки именуют развратом.
Таковы чувства, руководившие нами в этом труде, таковы мотивы, заставившие соединить с языком самым циничным самые дерзкие теории, самые грязные, самые безнравственные мысли. Мы хотели изобразить преступление таким, какое оно есть, – торжествующим, счастливым, упоенным собой. Мы хотели изобразить добродетель такой, какой мы встречаем ее в жизни, – всегда униженной, всегда страдающей, всегда стойкой и всегда несчастной.
Жюльетта и Жюстина, дочери весьма богатого парижского банкира, с самого раннего детства воспитывались в одном из прославленных монастырей Парижа. Они не знали недостатка ни в добрых советах, ни во внимательных учителях – мораль, честь, религия и таланты, казалось, соревновались друг с другом, чтобы сформировать эти юные души.
И вот все это рухнуло в один момент. Жюльетте было пятнадцать, а Жюстине четырнадцать лет, когда ужасающее, непоправимое банкротство обрушилось на их отца. Он не выдержал такого удара и умер от нервной горячки; супруга пережила его всего несколькими днями. У двух сирот оставались только очень дальние родственники, совершенно равнодушные к судьбе детей. Им вручили их долю наследства – она составила около ста экю для каждой, – открыли двери монастыря и предоставили делать все что заблагорассудится.
Старшая из сестер, прехорошенькая, легкомысленная шалунья Жюльетта, совершенно обезумела от радости покончить с монастырским прозябанием, ничуть не думая об обратной стороне выпавшей на ее долю участи. Более наивная, но и более красивая Жюстина, которой, как мы уже сказали, исполнилось четырнадцать лет, была одарена от природы характером меланхолическим, и будущее страшило ее. Старшая была изящна и остроумна, младшая обладала душой необычайно чувствительной и нежной до беззащитности. Вместо ловкости старшей у младшей было простодушие, обещавшее ей стать жертвой многих ловушек на ее пути.
Это юное создание напоминало собой прелестных девственниц Рафаэля. Большие карие глаза, полные огня и ума, нежная ослепительная кожа, черты лица, словно вылепленные самим богом любви, чудесный голос, восхитительный рот и самые великолепные на свете волосы – вот весьма приблизительный набросок, который может изобразить наше перо. Пусть наши читатели поверят нам, что трудно найти существо более соблазнительное, более волнующее, чем четырнадцатилетняя Жюстина.
Обеим предстояло через сутки покинуть монастырь. Жюль-етта попыталась осушить слезы, потоком льющиеся из глаз младшей сестры. Но вместо того чтобы утешать ее, она стала ее упрекать: обвинила ее в излишней чувствительности. Опираясь на весьма рациональную философскую базу, довольно неожиданную в таком возрасте, обличавшую в ней причудливые игры натуры, она уверяла сестру, что в этом мире ни о чем не надо скорбеть, что во всяком случае можно отыскать в самой себе такие чисто физические возможности, которые доставят столько плотских радостей, столь сильное наслаждение, что все печали забудутся, и надо испытать чудесные способы на практике, чтобы в этом убедиться. Подлинная мудрость, говорила она, состоит в том, чтобы все более увеличивать количество наслаждений, что нет ничего запретного, что, словом, нужно задушить в себе эту проклятую стыдливость, приносящую нам только печали.
– Смотри, – сказала она, бросившись на кровать и задрав перед глазами изумленной сестры выше пояса свою юбку, – вот что я делаю, когда мне становится грустно. Я пускаю в ход свой палец, я получаю наслаждение, и это успокаивает меня.
Добродетельная Жюстина содрогнулась от этого зрелища и поспешила отвернуться, а Жюльетта, продолжая изо всех сил натирать свой чудесный маленький холмик, не умолкая, убеждала сестру:
– Ты дура, Жюстина. Ведь ты гораздо красивее меня, а никогда не будешь такой счастливой!
При этих словах юная развратница застонала, и ее свежий сок полился так же обильно, как лились бы ее слезы, если бы она не прибегла к столь спасительной процедуре.
– Что ты беспокоишься, дурочка, – продолжала сладострастница, вновь устраиваясь подле младшей сестры, – с нашей внешностью и в таком юном возрасте мы никогда не умрем с голоду.
По этому случаю она рассказала Жюстине о дочери одного из соседей, которая, убежав из дому, сделалась богатой содержанкой и чувствует себя гораздо лучше, чем если бы она осталась в лоне семьи. Жюстину эта история заставила задрожать от испуга. Она призналась, что предпочла бы смерть бесчестью, а те несколько новых предложений, которые не преминула сделать ей сестрица, окончательно укрепили ее в решении навсегда покинуть ту, чье поведение внушало ей такой ужас.
На следующий день сестры расстались, даже не пообещав друг другу встречаться, – слишком различны были их дальнейшие намерения. Могла ли Жюльетта, которой предстояло стать гранд-дамой, согласиться принимать у себя столь добродетельную девицу, являющуюся для нее вечным укором? А как могла Жюстина рискнуть встретиться с той, которая посвятила себя беспутству и выставляемому на всеобщее обозрение разврату?
Теперь, с позволения читателя, мы покинем на продолжительное время юную потаскушку, чтобы представить глазам публики все те истории, которые приключились с нашей добродетельной героиней в ее странствованиях по морю житейскому.
Жюстина в детстве была весьма обласкана постоянной портнихой своей матери и не без оснований надеялась на помощь этой женщины. Она отыскала ее, рассказала о своем несчастье, просила у нее какой-нибудь работы… Ее едва узнали, она решительно была отвергнута.
– О Небо! – воскликнуло несчастное дитя. – Возможно ли, чтобы первые же шаги в жизни были столь неудачны!.. Эта женщина так сильно любила меня в детстве, почему же сейчас она отвергла меня? Неужели потому, что теперь я бедная сирота, что мне не на что поддерживать свое существование, а здесь ценят только тех, от кого надеются хоть что-нибудь получить.
Вся в слезах, направилась Жюстина к своему священнику. Она изобразила ему свое отчаяние со всей энергией и пылом юного возраста, и в этом отчаянии она была прелестна: легкое белое платье, роскошные волосы, живописно сбегавшие по плечам, прикрытым воздушной мадрасской косынкой. Опытный взгляд развратника мог без труда различить под газовой накидкой уже вполне развившуюся грудь. Лицо ее, чуть побледневшее вследствие печали, мучившей ее, слезинки, дрожавшие на ее ресницах, – невозможно было быть прелестней…
– Вы видите меня, сударь, – обратилась Жюстина к святому отцу, – да, вы видите меня в самом прискорбном положении: я потеряла обоих родителей; небо отняло у меня их в том возрасте, когда мне более всего необходима их помощь, а умерли они совершенно разоренными. Вот все, что они оставили мне, – добавила она, показывая двенадцать луидоров. – У меня нет даже угла, где я могла бы преклонить свою голову. Вы ведь сжалитесь надо мной, сударь, не правда ли? Вы – служитель Церкви, а Церковь – прибежище и приют всех добродетелей. Во имя Бога, которому она служит и которого я обожаю всеми фибрами своей души, во имя Высшего Существа, чьим органом вы являетесь, скажите мне, мой второй отец, что мне делать и как мне выбиться в люди?
Внимательно разглядывая Жюстину, милостивый священник отвечал, что приход его очень перегружен, что дела идут слишком плохо, чтобы помочь Жюстине, но если она хочет служить и не чурается черной работы, то для нее всегда найдется на кухне кусок хлеба. Говоря все это, он осторожно поглаживал складку юбки Жюстины и так прикасался к ее ягодицам, что она, угадав его намерения, резко отодвинулась и воскликнула:
– Сударь, мне не надо ни милости, ни места служанки. Я пришла к вам за другой помощью, пришла за советами, в которых так нуждаюсь теперь, а вы хотите взять с меня за это слишком дорогую плату!
Служитель Христа, взбешенный тем, что его намерения разгаданы и отвергнуты, вскочил с места и громким голосом позвал свою племянницу и ее служанку.
– Вышвырните вон немедленно эту маленькую негодницу! – закричал он. – Вы не представляете, что она осмелилась мне только что предлагать. Столько порока в таком возрасте!.. И кому, мне, человеку… Пусть она убирается отсюда, пусть убирается, а не то я велю ее арестовать!
И несчастная Жюстина, отвергнутая, оклеветанная, обливаясь слезами, покинула дом презренного аббата. Побродив по улицам, она увидела дверь, на которой висело объявление, что на пятом этаже сдается небольшая комната. Она вошла в дом, заплатила аванс и, оставшись одна, залилась горючими слезами, и не только потому, что была чрезвычайно чувствительна, но и потому, что ее гордость в первый же день ее самостоятельной жизни была так жестоко оскорблена.
Но беды Жюстины не были исчерпаны этими огорчениями. В мире есть множество злодеев, которых не только не трогают страдания скромных девушек, а, напротив, лишь побуждают использовать в своих грязных целях их беды. Из всех разочарований, выпавших на долю Жюстины в самом начале ее печальной истории, мы расскажем только об ее встрече с Дюбуром, самым богатым, но и самым жестоким из парижских откупщиков.
Квартирная хозяйка Жюстины направила бедную сироту к господину Дюбуру: такой богатый и благородный человек не может не помочь красивой девочке, оказавшейся в тяжелейшем положении. После долгого ожидания в прихожей Жюсти-ну наконец ввели в кабинет. Господин Дюбур, маленький толстяк, бесцеремонный, как все финансисты, только что встал с постели, его то и дело распахивающийся халат прикрывал дезабилье – господин Дюбур ждал куафера.
– С чем же вы ко мне пришли, дитя мое? – осведомился Дюбур.
– Сударь, – отвечала, скромно потупившись, наша простушка, – я бедная сирота, мне едва исполнилось четырнадцать лет, но я уже успела узнать всевозможные бедствия. Я взываю к вашему состраданию, заклинаю вас – пожалейте меня!
И, не переставая плакать, Жюстина стала подробно рассказывать явно заинтересовавшемуся ею старому злодею о всех своих неудачах при поисках места, не умолчав и о том омерзении, которое внушали ей некоторые предложения. Она закончила дрожащим голосом, что надеется, что такой богатый и щедрый человек, как господин Дюбур, несомненно, поможет найти ей средства к существованию.
Рассказ девочки привел Дюбура в возбуждение. Он раскраснелся, начал одной рукой раскачивать под полами халата свой вяло висевший член, другая же рука держала лорнет, направленный на прелести Жюстины.
Дюбур этот был закоренелый распутник, большой любитель юных девиц, щедро вознаграждавший женщин, поставляющих к его столу подобную дичь. С ними Дюбур осуществлял свои фантазии, которые были столь же жестоки, сколь и своеобразны: его единственной страстью было видеть доставшихся ему девочек в слезах. Надо признаться, добиваться этого он умел как никто на свете… У презренного плута имелось в запасе столько злодейских выходок, столько ядовитых поддразниваний, что бедным девчонкам трудно было удержаться от слез, и обрадованный Дюбур тут же добавлял к мучениям моральным плотские, – слезы лились еще пуще, и варвар наслаждался в полной мере, покрывая поцелуями заплаканное личико жертвы.
– Будете ли вы теперь благоразумны, чтобы добиться успеха? – строго спросил он Жюстину.
– Ах, сударь, – отвечала она, – если б я не была благоразумна, разве оказалась бы я теперь в таком положении? Нет, я бы не была уже ни бедной, ни отверженной.
– А чего же вы хотите от богатых людей, если вы сами ничем не собираетесь послужить им? – последовал новый вопрос.
– О сударь, мне ничего не надо, кроме того, чтобы получить службу, приличествующую моему возрасту и благопристойности!
– Да я вовсе и не говорю о службе! С вашей внешностью и в вашем возрасте к чему служить! Я говорю о том, что вы должны радовать мужчин. Какая польза от вашей хваленой добродетели? Ладан, который вы тщетно воскуряете перед этим алтарем, вас не накормит. То, что меньше всего ценится людьми в вашем поле, то, что они больше всего презирают, это как раз и есть так называемое благонравие. Ныне, дитя мое, ценится лишь то, что приносит или доход, или наслаждение, а какой доход, какая радость от женской добродетели? Как раз отсутствие добродетели радует нас и привлекает. Люди моего сорта дают лишь для того, чтобы что-то получить за это. А чем такая молоденькая девица, как вы, впрочем довольно некрасивая и к тому же глупая, может отплатить за все, что для нее сделают? Только тем, что полностью отдаст свое тело. Ну так подберите повыше ваше платье, если хотите получить от меня деньги.
Рука Дюбура потянулась к ляжкам Жюстины, намереваясь поудобнее устроиться между ними. Прелестное создание поспешно отшатнулось и воскликнуло со слезами:
– О сударь! Неужто и впрямь нет больше на свете порядочных и добрых мужчин?
– Бог весть, – живо откликнулся Дюбур, который при виде слез Жюстины ускорил темп движения руки, мастурбирующей под халатом. – Очень мало, если говорить правду. Теперь забывается манера помогать другим даром, теперь поняли, что радости благотворительности – это всего лишь сладострастие гордыни. Теперь хотят радостей более ощутимых, более материальных. Самое главное теперь – пользоваться плодами наслаждения.
– Боже мой! Значит, несчастные обречены на гибель?
– Эка важность! На свете и так много лишних ртов.
– Но как же должны будут дети относиться к своим родителям, если те станут рассуждать подобно вам? Может быть, слабых или больных лучше душить прямо в колыбели?
– А почему бы и нет? Этот обычай, кстати говоря, распространен во многих странах. Так было у древних греков, так происходит сейчас у китайцев. А для чего, к примеру, оставлять жить существо, подобное вам, которое не может надеяться на помощь своих родителей или потому, что лишилось их, или вообще никогда их не знало? Бастарды, сироты, уроды должны приговариваться к смерти сразу же после рождения; первые и вторые потому, что нет никого, кто бы мог о них позаботиться, и значит, эту заботу должно взваливать на себя общество, а последние потому, что ни на что не годятся. Общество должно поступать с ними как садовник поступает с засохшими, не приносящими плодов растениями…
– Ладно, – проговорил Дюбур, – хватит болтать о том, чего ты не понимаешь, и перестань жаловаться на судьбу: от тебя одной зависит поправить ее в свою пользу.
– Но какой ценой, Боже праведный?!
– Ничтожной… Всего-то нужно, чтобы ты подняла юбки, мне необходимо увидеть, что ты скрываешь под ними. Думаю, что ничего хорошего там нет, так что тебе не стоит так долго упрямиться. Давай-ка, черт возьми, решайся, у меня уже стоит… Мне надо увидеть телеса… Немедленно, а то я рассержусь.
– Но, сударь…
– Перестань болтать, тварь бессмысленная, безмозглая шлюха, или TBI думаешв, что с тобой я буду добрее, чем с другими?!
С этими словами разбушевавшийся распутник накинулся на Жюстину Слезы потоком лились по ее лицу, и он слизывал эти драгоценные капли, словно росу с листьев розы или лилии. Затем, одной рукой задрав платье Жюстины, он пустил свою вторую руку в первый раз попутешествовать по тем ее прелестям, над которыми так старательно потрудилась природа.
– Презренный человек! – воскликнула Жюстина. – Пусть Небо воздаст тебе однажды по заслугам за твою отвратительную черствость. Ты недостоин ни того богатства, которому ты нашел такое мерзкое употребление, ни даже воздуха, который ты оскверняешь своим дыханием. – И, собрав все свои силы, она вырвалась из рук Дюбура.
Вернувшись к себе, бедняжка не нашла ничего лучшего, как пожаловаться своей хозяйке на тот прием, который ей оказали в доме, рекомендованном с лучшей стороны этой почтенной дамой. Но каково же было ее удивление, когда вместо слов утешения она услышала жесточайшие упреки.
– Идиотка несчастная, – возмутилась хозяйка, – уж не думала ли ты, что мужчины будут творить тебе милостыню, ничего не требуя взамен? Господин Дюбур поступил как надо. Черт меня побери, но я бы на его месте ни за что бы тебя так не отпустила. Ну что ж, раз ты не хочешь по-хорошему, пусть будет по-плохому. Ты мне немедленно заплатишь деньги или завтра же познакомишься с тюремной похлебкой. За тобой должок. Или ты платишь сегодня же, или завтра – тюрьма.
– Где же ваше милосердие, мадам?
– О да, милосердие! С твоим милосердием живехонько околеешь с голоду. Бог ты мой – почти пять сотен девиц доставила я этому доброму господину, и ты первая, которая сыграла со мной такую шутку! Что он теперь обо мне подумает! Какой позор! Он скажет, что я не знаю своего ремесла, он сообщит об этом другим. Нет, милочка, собирайся, надо вернуться к господину Дюбуру, надо его удовлетворить и принести мне деньги. Я встречусь с ним, я его предупрежу, я исправлю твою дурость, а ты уж постарайся впредь вести себя как следует. Собирайся, я скоро вернусь.
Оставшись одна, Жюстина погрузилась в горчайшие размышления. «Нет, – глотая рыдания, сказала она себе решительно, – я не вернусь к этому распутнику. У меня хватит денег продержаться еще некоторое время. А там, может быть, я найду души не столь закоснелые в разврате, сердца менее черствые».
– Я пропала, – воскликнула несчастная. – Но я догадываюсь, кто нанес мне этот удар. Вот так, лишив меня всяких средств к существованию, недостойная женщина хочет заставить меня кинуться в пропасть греха… Но… – продолжала Жюстина, – Увы! А как же иначе я смогу теперь жить? В таком ужасном положении неужели лишь этот злодей или подобные ему только и могут помочь?
В отчаянии Жюстина спустилась к своей хозяйке.
– Мадам, – обратилась она к ней, – меня обокрали. И где? У вас, в вашем доме, где я доверчиво оставила свои деньги. Увы, больше у меня ничего нет; это было все, что оставалось у меня от покойного батюшки, и мне придется теперь только умереть. Верните мне деньги, мадам, я вас заклинаю!
– Нахалка! – не дала ей закончить хозяйка. – Да знаешь ли ты, что в моем доме ничего такого случиться не может! Сейчас же скажи, кого ты смеешь подозревать, а то сама сию же минуту окажешься в полиции. Меня там знают и уважают мой дом.
– Я никого не подозреваю, мадам. Я к вам пришла не с подозрениями, а с жалобами, с просьбами. В моем положении это понятно и простительно. Что же мне делать теперь, когда пропала моя единственная надежда?
– С тобой будет то, что будет, меня это не касается. Способ поправить твое положение есть, но ты, видишь ли, от него отказываешься!
Эти слова погасили луч надежды в сердце Жюстины.
– Но, мадам, – отвечала плачем несчастная девочка, – я хочу честно зарабатывать свой хлеб. Разве я не могу пойти в служанки к кому-нибудь? Неужели, только преступив законы божеские и человеческие, можно добыть себе пропитание?
– Ну разумеется! Такова теперешняя жизнь. Да и что ты заработаешь служанкой? Десяток экю в год; как ты сможешь прожить на это? Поверь мне, милочка, что служанки все равно подрабатывают распутством, иначе они бы протянули ноги. Я-то знаю, немало их обращается ко мне. Посмотри на меня; не хвалясь скажу – я самая лучшая сводня во всем Париже. Каждый день не меньше двух десятков девиц прибегает к моим услугам. Это мне приносит… Да ладно. Словом, я уверена, что во всей Франции нет женщины, которая так хорошо знала бы это дело. Взгляни, – продолжала она, выложив перед Жюстиной пригоршню монет, – тут хватит и на драгоценности, и на роскошное белье, и на платье, и все это ты можешь заработать очень легко. А ты нос воротишь… Черт побери, доченька, ведь это единственное стоящее ремесло для нашей сестры. Решайся! Поверь мне, тут нет ничего страшного… Тем более этот славный человек ничуть тебе не опасен. У него давно уже не стоит, как же он может е…ь? Ну ударит несколько раз по попке, даст пару-другую пощечин – вот и все его радости. А если ты будешь вести себя хорошо и он останется тобой доволен, я познакомлю тебя с другими богатыми старичками, и не пройдет и двух лет, как ты со своей фигурой и личиком сколотишь такое состояние, что будешь разъезжать по Парижу в карете.
– У меня не столь изысканные вкусы, – отвечала Жюсти-на. – Такая судьба не для меня, особенно если платить за это надо ценой спасения души. А я ведь хочу только одного: чтобы мне помогли как-нибудь не умереть с голоду. И тот, кто мне в этом поможет, пусть рассчитывает на любую мою благодарность. Прошу вас, мадам, удостойте меня вашим благоволением: пока я не нашла место, одолжите мне всего один луидор; я вам верну долг, поверьте мне, как только получу свой первый заработок.
– И двух су от меня не получишь, – проговорила мадам Дерош, весьма довольная зрелищем безнадежного положения Жюстины. – Двух су не получишь от меня задарма, а я предлагаю тебе гораздо большую сумму. Выбирай – или то, что я тебе предлагаю, или приют для потаскушек. Кстати, господин Дюбур – один из покровителей этого заведения, он очень легко может тебя туда определить. Здравствуй, душенька, – продолжала мадам Дерош, обращаясь к вошедшей в эту минуту высокой хорошенькой девице, явно пришедшей узнать о работе. – А тебе – до свиданья, голубушка, и помни: завтра или деньги, или тюрьма.
– Ну что ж, мадам, – вздохнула Жюстина, – предупредите господина Дюбура. Раз вы ручаетесь, что он меня не обесчестит, я к нему приду. Приду. Мое положение не дает мне другого выхода, но знайте, мадам, что я никогда не перестану презирать вас за ваш поступок.
– Вот несносная девка, – проговорила Дерош, выпроводив Жюстину и закрыв за ней дверь. – Ты заслуживаешь того, чтобы я тебя бросила окончательно, но я делаю это не для тебя, я думаю о другом. А на твои чувства мне наплевать…
Перо наше не в силах описать ужасную ночь, проведенную Жюстиной в горестных размышлениях. Воспитанная в принципах веры, стыдливости и целомудрия, которые она буквально всосала с молоком матери, она не могла не думать о предстоящем ей испытании без душераздирающих сомнений. Перебирая в уме тысячи способов, которые помогли бы ей избежать благодеяний мадам Дерош, и видя всю их бесполезность, она так и не заснула до утра. А утром в ее комнату вошла сама мадам Дерош.
– Поднимайся, Жюстина, – произнесла она тоном приказа. – Мы будем сейчас завтракать с одной моей приятельницей, и поздравь меня с успехом моей миссии: господин Дю-бур, поверив в мое обещание, что ты будешь умницей, согласился тебя принять еще раз.
– Но, мадам…
– Давай, давай, собирайся, перестань глупить, шоколад уже готов. Иди за мной.
Жюстина покорно последовала за сводней: неосторожность – вечная компаньонка несчастья. Жюстина слышала только голос своей нищеты.
Очень миловидная женщина лет двадцати восьми ждала их за накрытым столом. Эта женщина, полная ума и изящества, глубоко развращенная и столь же богатая, сколь и любезная, столь же ловкая, сколь и красивая, вскоре, как мы увидим, станет надежной помощницей Дюбура в соответствующем духе.
Завтрак начался.
– Какая прелестная девчушка, – произнесла мадам Дель-монс, – можно от души поздравить того, кто будет ее обладателем.
– Вы так добры, мадам, – смущенно пролепетала Жюстина.
– Ну полно, сердце мое, – воскликнула мадам Дельмонс, – зачем же так краснеть? Стыдливость – ребячество, которое надо забыть, когда наступает зрелый возраст, возраст разума.
– О, я вас умоляю, мадам, – вмешалась Дерош, – помогите образовать эту девчонку: она считает себя погибшей оттого, что я подыскала ей солидного покровителя.
– Бог мой! Какая чудачка, – ответила Дельмонс. – Не вздумайте отказываться от этого предложения, Жюстина… Вы должны быть глубоко признательны тому, кто вам его делает. Какой чепухой, дитя мое, набита ваша голова! Разве может юное существо пренебрегать тем, у кого оно вызывает страстное желание? Женское целомудрие, женское воздержание – эти добродетели не пользуются сейчас никаким успехом, никогда не признавайтесь в этом, глупышка. Когда страсти проснутся в вашей душе, вы увидите, что нам просто невозможно жить с такими взглядами. Зачем же женщине чувствительной, женщине страстной все время подавлять в себе эти чувства? Ведь все вокруг говорит ей о наслаждении жизнью. Не обманывайтесь, Жюстина, эти ваши добродетели могут только погубить вас, замучить, изнурить. А как приятно носить маску! Носите маску, умейте изображать себя – это все, что от вас требуется. Та из нас, которая получит репутацию кокотки, будет, конечно, не так довольна жизнью, как та, которая, занимаясь всеми видами разврата, слывет тем не менее женщиной благопристойной – вот подлинная удача в жизни! Значит, так называемая добродетель, целомудрие – это всего лишь епитимья, наложенная на наш пол мужчинами. Я поясню это на своем примере, Жюстина. Вот уже четырнадцать лет, как я замужем; ни на минуту не теряла я доверия моего супруга, он всюду прославляет мою сдержанность, мою верность ему. А ведь я с самых первых дней супружества бросилась во все тяжкие и думаю, что вряд ли отыщешь в Париже вторую такую замужнюю даму. Не было дня, чтобы я не перепробовала по семь или восемь мужчин, причем иногда по трое зараз. Меня знают все парижские сводни, а мой супруг поклянется тебе, если ты его спросишь, что сама богиня Веста не была столь целомудренной, как я. Вот как ловко ношу я эту достойную маску. Я ненасытна, как Мессалина, меня зовут Лукрецией. Я безбожна не хуже Ванини, меня называют святой Терезой. Словом, я поклоняюсь всем мыслимым порокам, я плюю на все условности, но если ты спросишь обо мне кого-нибудь из моего семейства, тебе ответят: «О, Дельмонс – это ангел». Я – ангел, а ведь сам князь тьмы знает, возможно, меньше пороков. Тебя пугает, ты говоришь, проституция? Какая чушь, дитя мое! Давай рассмотрим ее со всех сторон – чего же в ней страшного? Страшно то, что она делает юную девушку распутницей? Да ведь это означает всего-навсего уступку самым сладким движениям натуры! Ведь природа мудра, и если бы эти движения, эти помыслы были опасны, она бы и не знала их! Найдешь ли ты хоть одну женщину, которая ни разу в жизни не испытывала желания отдаться мужчине, желания настолько же непреодолимого, как голод и жажда? Вот я тебя и спрашиваю: разве природа может внушить женщине желание, которое было бы преступным? Хочешь рассмотреть этот вопрос с точки зрения отношения к обществу? Изволь. Я думаю, что вряд ли можно найти для того пола, который делит с нами весь мир, более приятное занятие, чем возлежать с молодой женщиной. И если все мы, весь наш пол оказался бы вдруг подвержен тем ложным взглядам, которые нам проповедуют ханжи и святоши, что прикажешь делать другой половине рода человеческого?
Маркиз Де Сад
Жюстина, или Несчастья добродетели
«Да, я распутник и признаюсь в этом, я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но не преступник и не убийца… Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель.»
Маркиз де Сад
«Кстати, ни одной книге не суждено вызвать более живого любопытства. Ни в одной другой интерес - эта капризная пружина, которой столь трудно управлять в произведении подобного сорта, - не поддерживается настолько мастерски; ни в одной другой движения души и сердца распутников не разработаны с таким умением, а безумства их воображения не описаны с такой силой. Исходя из этого, нет ли оснований полагать, что „Жюстина“ адресована самым далеким нашим потомкам? Может быть, и сама добродетель, пусть и вздрогнув от ужаса, позабудет про свои слезы из гордости оттого, что во Франции появилось столь пикантное произведение».
Из предисловия издателя «Жюстины» (Париж, 1880 г.)
«Маркиз де Сад, до конца испивший чащу эгоизма, несправедливости и ничтожества, настаивает на истине своих переживаний. Высшая ценность его свидетельств в том, что они лишают нас душевного равновесия. Сад заставляет нас внимательно пересмотреть основную проблему нашего времени: правду об отношении человека к человеку».
Симона де Бовуар
РОМАНЫ МАРКИЗА ДЕ САДА В КОНТЕКСТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ XX СТОЛЕТИЯ
Великий французский писатель и мыслитель Маркиз де Сад (1740 - 1814) предвосхитил интерес западной культуры XX века к проблеме эротики и сексуальности, показав в своих книгах значение эротического и сексуального инстинкта и зафиксировав различные формы их проявления, тем самым в определенной степени наметив проблематику эротической и сексуальной стихии в творчестве Г. Аполлинера, С. Дали, П. Элюара, А. Арго, Л. Бунюэля, Э. Фрейда, Э. Фромма, И. Бергмана, Ф. Феллини, Ю. Мисима, Г. Маркузе, А. Камю и других.
Г. Аполлинер, открывший Сада, выказался о нем как о самом свободном из когда-либо существовавших умов. Это представление о Саде было подхвачено сюрреалистами. Ему отдали дань А. Бретон, нашедший у него «волю к моральному и социальному освобождению», П. Элюар, посвятивший восторженные статьи «апостолу самой абсолютной свободы», С. Дали, придающий, по его собственным словам, «в любви особую цену всему тому, что названо извращением и пороком». Это было в основном эмоциональное восприятие. В книгах Сада сюрреалистов увлек вселенский бунт, который они сами мечтали учинить; Сад стал для них символом протеста против ханжеской морали и был привлечен на службу «сюрреалистической революции». В действительности Маркиз де Сад хотел того, чего не может дать простая перестройка, чего нельзя добиться изменением материальных и относительных условий; он хотел «постоянного восстания духа», интимной революции, революции внутренней. В ту эпоху он хотел того, что сегодняшняя революция уже не считает «невозможным», а полагает как исходный пункт и конечную цель: изменить человека. Изменить его окончательно и бесповоротно, изменить любой ценой, ценой его «человеческой природы» и даже ценой его природы сексуальной и прежде всего ценой того, что в нашем обществе сформировало все отношения между людьми, сделало их неестественными и объединило любовь и целостность в одной катастрофе, в одной бесчеловечности.
Маркиз де Сад, на наш взгляд, является прежде всего человеком, одаренным гениальной научной фантазией. Фантазия - это то, что позволяет с помощью фрагмента реальности воссоздать ее целиком. Сад, исходя из рудиментарных проявлений собственной алголагнии, без помощи какого-либо предшественника, причем с самого начала достигнув совершенства, построил гигантский музей садо-мазохистских перверсий. Жиль Делез считает, что «В любом случае Сад и Мазох являются также и великими антропологами, подобно всем тем, кто умеет вовлекать в свой труд некую целостную концепцию человека, культуры, природы, - и великими художниками, подобно всем, кто умеет извлекать из небытия новые формы и создавать новые способы чувствования и мышления, некий совершенно новый язык». Настойчивость, с какою Сад всю свою жизнь исследовал исключительно извращенные формы человеческой природы, доказывает, что для него важно было одно: заставить человека возвратить все зло, которое он только способен отдать. Сад внес вклад в постепенное осознание человеком самого себя, иначе говоря, если прибегнуть к философскому языку, способствовал его самосознанию: уже сам термин «садист», обладающий универсальным значением, - убедительное свидетельство этого вклада. Инстинкты, описанные в «Жюстине» и «Жюльете», теперь имеют право гражданства. Ницше дал на это единственно достойный ответ: если страдание и даже боль имеют какой-то смысл, то он должен заключаться в том, что кому-то они доставляют удовольствие. Никто не станет отрицать, что жестокость героев «Жюстины» или «Жюльеты» неприемлема. Это - отрицание основ, на которых зиждется человечество. А мы должны так или иначе отвергать все, что имело бы своей целью уничтожить творения своих рук. Таким образом, если инстинкты толкают нас на разрушение того, что мы сами создаем, нам следует определить ценность этих инстинктов как губительную и защищать себя от них. Порочный человек, непосредственно предающийся своему пороку, - всего лишь недоносок, который долго не протянет. Даже гениальные развратники, одаренные всеми задатками, чтобы стать подлинными чудовищами, если они ограничатся тем, что будут всего лишь следовать своим наклонностям, обречены на катастрофу (Ц. Борджа, Казанова, Берия, Гитлер и др.). Можно, конечно, читать Сада, руководствуясь проектом насилия, но его можно читать также, руководствуясь принципом деликатности. Утонченность Сада не является ни продуктом класса, ни атрибутом цивилизации, ни культурным стилем. Она состоит в мощи анализа и способности к наслаждению: анализ и наслаждение соединяются в непостижимой для нашего общества экзальтации, уже в силу этого представляющей собой самую главную из утопий. Насилие прибегает к коду, которым люди пользовались на протяжении тысячелетий своей истории; возвращаться к насилию значит продолжать пользоваться тем же речевым кодом. Постулируемый Садом принцип деликатности может составить основу абсолютно нового языка, неслыханной мутации, призванной подорвать сам смысл наслаждения.
Идеи и мысли одного из самых проницательных и пугающих умов Франции - Маркиза де Сада глубоко осмыслил и трансформировал в своем творчестве С. Дали. Он постоянно читал и перечитывал книги Сада и вел с ним своего рода диалог в своих картинах и писаниях. Многие из картин Дали, с характерным для него стремлением - свойственным и Саду - рационалистически упорядочить не подлежащий упорядочению мир неконтролируемых, иррациональных, подсознательных порывов души, содержат садический элемент («Осеннее каннибальство», «Одна секунда до пробуждения от сна, вызванного полетом осы вокруг граната», «Юная девственница, содомизирующая себя своим целомудрием».). Садические мотивы звучат также в творчестве М. Эрнста, («Дева Мария, наказывающая младенца Иисуса в присутствии трех свидетелей: Андре Бретона, Поля Элюара и автора»), К. Труя, писавшего картины непосредственно по мотивам романов Сада. Садический «привкус» ощущается также в драматургии теоретика «театра жестокости» А. Арто, стремившегося обновить театральные каноны путем введения навязчивых тем кровосмешения, пыток и насилия. Достойным продолжателем садических традиций в XX веке являлся гениальный японский писатель Ю. Мисима («Золотой храм»). Эротика и секс были жизнерадостной религией надежды для Г. Миллера («Тропик Рака») и В. Набокова («Лолита»).
Известный испанский режиссер Л.Бунюэль испытал огромное влияние произведений Сада. На примере Бунюэля мы убедимся в магическом воздействии книг Сада: «Я любил Сада. Мне было более двадцати пяти лет, когда в Париже я впервые прочитал его книгу. Книгу „Сто двадцать дней Содома“ впервые издали в Берлине в небольшом количестве экземпляров. Однажды я увидел один из них у Ролана Тюаля, у которого был в гостях вместе с Робертом Десносом. Этот единственный экземпляр читал Марсель Пруст и другие. Мне тоже одолжили его. До этого я понятия не имел о Саде. Чтение весьма меня поразило. В университете Мадрида мне практически были доступны великие произведения мировой литературы - от Камоэна до Данте, от Гомера до Сервантеса. Как же мог я ничего не знать об этой удивительной книге, которая анализировала общество со всех точек зрения - глубоко, систематично - и предлагала культурную „tabula rasa“. Для меня это был сильный шок. Значит в университете мне лгали… Я тотчас пожелал найти другие книги Сада. Но все они были строжайше запрещены, и их можно было обнаружить только среди раритетов XVIII века. Я позаимствовал у друзей „Философию в будуаре“, которую обожал, „Диалог священника и умирающего“, „Жюстину“ и „Жюльету“… У Бретона был экземпляр „Жюстины“, у Рене Кревеля тоже. Когда Кревель покончил с собой, первый, кто пришел к нему, был Дали. Затем уже появились Бретон и другие члены группы. Немного позднее из Лондона прилетела подруга Кревеля. Она-то и обнаружила в похоронной суете исчезновение „Жюстины“. Кто-то украл. Дали? Не может быть. Бретон? Абсурд. К тому же у него был свой экземпляр. Вором оказался близкий Кревелю человек, хорошо знавший его библиотеку»
«Люди, неискушенные в подвиге добродетели, могут посчитать для себя выигрышным предаться пороку, вместо того чтобы оказывать ему сопротивление». Поэтому «необходимо представить силу примеров несчастной добродетели», способной привести к добру «испорченную душу, если в той сохраняются, по крайней мере, какие-либо добрые начала». Таковыми стремлениями руководствуется автор романа, в мрачной гротескной форме живописуя современные ему нравы.
Судьба подвергает сестер Жюстину и Жюльетту суровому испытанию: умирают родители, и девушки оказываются на улице без средств к существованию. Красавица Жюльетта вступает на стезю разврата и быстро превращает последний в источник дохода, а столь же очаровательная сестра её во что бы то ни стало хочет остаться добродетельной. Через несколько лет Жюльетта, погрязнув в пороке и запятнав себя множеством преступлений, среди которых убийства мужа, незаконных детей и любовников, добивается всего, чего желала: она - графиня де Лорзанж, богатая вдова, у нее есть любовник, почтенный господин де Корвиль, живущий с ней, как с законной супругой.
Однажды, путешествуя вместе с де Корвилем, на постоялом дворе Жюльетта встречает девушку, которую везут в Париж для вынесения ей смертного приговора: девица обвиняется в убийстве, воровстве и поджоге. Нежное и печальное лицо красавицы пробуждает в душе графини неведомое ей доселе сострадание, с дозволения жандармов она привечает девушку и просит её рассказать свою историю. Девушка соглашается, однако отказывается раскрыть свое происхождение.
Впрочем, читатель наверняка догадался, что перед ним - несчастная Жюстина, так что в дальнейшем мы будем называть девицу её настоящим именем.
Оказавшись за воротами монастыря одна и без денег, Жюстина решает наняться в прислуги, но вскоре с ужасом убеждается, что получить место можно только поступившись своей добродетелью. Наконец её берет в услужение богатый ростовщик. Он подвергает испытанию порядочность Жюстины - заставляет её обокрасть богатого соседа. Когда же она отказывается, он обвиняет её в краже, и девушку сажают в тюрьму. Там она знакомится с авантюристкой Дюбуа и вместе с ней бежит из заточения.
Разбойница Дюбуа заставляет Жюстину вступить в банду, а когда та отказывается, отдает её на поругание разбойникам. Каждодневно терпя моральные и физические мучения, Жюстина остается в шайке, но всеми силами пытается сохранить свою девственность. Однажды разбойники захватывают в плен некоего Сент-Флорента; Жюстина из человеколюбия помогает пленнику совершить побег и сама бежит вместе с ним. Но Сент-Флорент оказывается негодяем: он оглушает Жюстину, в бессознательном состоянии насилует её и бросает в лесу на произвол судьбы.
Истерзанная Жюстина нечаянно становится свидетельницей противоестественной связи графа де Бриссака с его лакеем. Обнаружив девушку, граф сначала запугивает её до полусмерти, но потом меняет гнев на милость и устраивает её горничной к своей тетке. Несмотря на очаровательную внешность, в душе господина де Бриссака обитают всевозможные пороки. Стремясь внушить Жюстине принципы своей извращенной морали, он приказывает ей отравить тетушку. Перепуганная Жюстина рассказывает все госпоже де Бриссак. Старушка возмущена, а граф, поняв, что его предали, выманивает Жюстину из дома, срывает с нее одежды, травит собаками, а потом отпускает на все четыре стороны.
Кое-как Жюстина добирается до ближайшего городка, находит врача, и тот исцеляет её раны. Так как у Жюстины кончаются деньги, она отваживается написать графу де Бриссаку, дабы тот вернул причитающееся ей жалованье. В ответ граф сообщает, что тетушка его скончалась от яда, отравительницей считают Жюстину и полиция разыскивает её, так что в её интересах скрыться где-нибудь в укромном месте и более его не беспокоить. Расстроенная Жюстина доверяется доктору Родену, и тот предлагает ей место служанки у себя в доме.
Девушка соглашается.
Помимо врачевания Роден содержит школу, где совместно обучаются мальчики и девочки, все как на подбор очаровательные. Не в силах понять, в чем тут дело, Жюстина принимается расспрашивать дочь доктора Розалию, с которой она успела подружиться. С ужасом Жюстина узнает, что доктор предается разврату как с учениками, так и с собственной дочерью. Розалия отводит Жюстину в потайную комнату, откуда та наблюдает чудовищные оргии, устраиваемые Роденом с подвластными ему жертвами. Тем не менее Жюстина по просьбе Розалии остается в доме доктора и начинает наставлять подругу в христианской вере. Неожиданно Розалия исчезает. Подозревая её отца в очередной чудовищной проделке, Жюстина обыскивает дом и находит свою подругу запертой в потайном чулане: Роден решил умертвить дочь, произведя над ней некую хирургическую операцию. Жюстина устраивает Розалии побег, но сама попадает в руки доктора; Роден ставит ей на спину клеймо и отпускает. Жюстина в ужасе - ей и так вынесен приговор, а теперь еще и клеймо... Она решает бежать на юг, подальше от столицы.
Жюстина выходит к монастырю, где хранится чудотворная статуя Святой Девы, и решает пойти помолиться. В обители её встречает настоятель дон Северино. Благородная внешность и приятный голос настоятеля внушают доверие, и девушка чистосердечно рассказывает ему о своих злоключениях. Убедившись, что у Жюстины нет ни родных, ни друзей, монах меняет тон, грубо хватает её и тащит в глубь монастыря: за фасадом святой обители скрывается гнездо разврата и порока. Четверо отшельников во главе с настоятелем залучают к себе девиц, чье исчезновение не влечет за собой никаких последствий, заставляют их участвовать в оргиях и предаваться самому разнузданному разврату, удовлетворяя извращенное сладострастие святой братии. В зависимости от возраста девушек делят на четыре разряда, у каждого разряда свой цвет одежд, свой распорядок дня, свои занятия, свои наставницы. Крайняя осторожность святых отцов и их высокое положение делают их неуязвимыми. Женщин, наскучивших монахам, отпускают на свободу, но, судя по некоторым намекам, свобода эта означает смерть. Бежать из обители невозможно - на окнах толстые решетки, вокруг рвы и несколько рядов колючей живой изгороди. Тем не менее истерзанная Жюстина, едва не испустившая дух под розгами развратников, решается бежать. Случайно найденным напильником она перепиливает оконную решетку, продирается сквозь колючие кусты, скатывается в ров, наполненный трупами, и в ужасе бежит в лес. Там она опускается на колени и возносит хвалы Господу. Но тут двое незнакомцев хватают её, накидывают на голову мешок и куда-то волокут.
Жюстину приводят в замок графа де Жернанда, престарелого развратника огромного роста, приходящего в возбуждение только при виде крови. Жюстине предстоит прислуживать его четвертой жене, угасающей от постоянных кровопусканий. Добросердечная девушка соглашается помочь своей несчастной госпоже - передать письмо её матери. Но увы! Спустившись по веревке из окна замка, она попадает прямо в объятия хозяина! Теперь Жюстину ждет наказание - медленная смерть от потери крови. Внезапно раздается крик: «Госпожа при смерти!», и Жюстина, воспользовавшись суматохой, бежит прочь из замка. Вырвавшись из лап страшного графа, она добирается до Лиона и решает заночевать в гостинице. Там её встречает Сент-Флорент; он предлагает ей стать при нем сводней, которая обязана поставлять ему по две девственницы в день. Жюстина отказывается и спешно покидает город. По дороге она хочет подать милостыню нищенке, но та бьет её, вырывает кошелек и убегает. Взывая к Господу, Жюстина идет дальше. Встретив раненого мужчину, она оказывает ему помощь. Придя в сознание, господин Ролан приглашает её к себе в замок, обещая место горничной. Жюстина верит, и они вместе пускаются в путь. Едва приблизившись к мрачному уединенному жилищу Ролана, девушка понимает, что её опять обманули. Ролан - главарь банды фальшивомонетчиков; сначала он заставляет несчастную Жюстину крутить тяжелый ворот, а потом швыряет в подземелье, где терзает её, дабы удовлетворить свое вожделение. Бедняжку кладут в гроб, подвешивают, избивают, бросают на горы трупов...
Неожиданно приезжают жандармы; они арестовывают Ролана и везут на суд в Гренобль. Благородный судья верит в невиновность Жюстины и отпускает её. Девушка покидает город. Ночью в гостинице, где она остановилась, случается пожар, и Жюстина попадает в тюрьму по обвинению в поджоге. Несчастная обращается за помощью к Сент-Флоренту, тот похищает её из темницы, но лишь затем, чтобы помучать и надругаться над ней. Утром Сент-Флорент возвращает девушку в тюрьму, где ей выносится смертный приговор.
Выслушав рассказ несчастной, графиня де Лорзанж узнает Жюстину, и сестры с рыданием падают друг другу в объятия.
Господин де Корвиль добивается освобождения и оправдания девушки; госпожа де Лорзанж увозит её к себе в поместье, где Жюстина наконец сможет зажить спокойно и счастливо. Но судьба распоряжается иначе: в окно замка влетает молния и убивает Жюстину. Сестра её Жюльетта раскаивается в прошлых своих грехах и уходит в монастырь. Нам же остается только проливать слезы над несчастной судьбой добродетели.