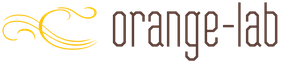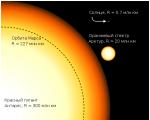Гримасы нэпа - дела давно минувших дней.
В цикле сатирических новелл М. Зощенко зло высмеивал цинично-расчетливых или сентиментально-задумчивых добытчиков индивидуального счастья, интеллигентных подлецов и хамов, показывал в истинном свете пошлых и никчемных людей, готовых на пути к устроению личного благополучия растоптать все подлинно человеческое ("Матренища", "Гримаса нэпа", "Дама с цветами", "Няня", "Брак по расчету").
В сатирических рассказах Зощенко отсутствуют эффектные приемы заострения авторской мысли. Они, как правило, лишены и острокомедийной интриги. М. Зощенко выступал здесь обличителем духовной окуровщины, сатириком нравов. Он избрал объектом анализа мещанина-собственника - накопителя и стяжателя, который из прямого политического противника стал противником в сфере морали, рассадником пошлости.
Круг действующих в сатирических произведениях Зощенко лиц предельно сужен, нет образа толпы, массы, зримо или незримо присутствующего в юмористических новеллах. Темп развития сюжета замедлен, персонажи лишены того динамизма, который отличает героев других произведений писателя.
Герои этих рассказов менее грубы и неотесаны, чем в юмористических новеллах. Автора интересует прежде всего духовный мир, система мышления внешне культурного, но тем более отвратительного по существу мещанина. Как ни странно, но в сатирических рассказах Зощенко почти отсутствуют шаржированные, гротескные ситуации, меньше комического и совсем нет веселого.
Однако основную стихию зощенковского творчества 20-х годов составляет все же юмористическое бытописание. Зощенко пишет о пьянстве, о жилищных делах, о неудачниках, обиженных судьбой. Словом, выбирает объект, который сам достаточно полно И точно охарактеризовал в повести "Люди": "Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями" . Движение сюжета в таком рассказе основано на постоянно ставящихся и комически разрешаемых противоречиях между "да" и "нет". Простодушно-наивный рассказчик уверяет всем тоном своего повествования, что именно так, как он делает, и следует оценивать изображаемое, а читатель либо догадывается, либо точно знает, что подобные оценки-характеристики неверны. Это вечное борение между утверждением сказчика и читательским негативным восприятием описываемых событий сообщает особый динамизм зощенковскому рассказу, наполняет его тонкой и грустной иронией.
Есть у Зощенко небольшой рассказ "Нищий" - о здоровенном и нагловатом субъекте, который повадился регулярно ходить к герою-рассказчику, вымогая у него полтинники. Когда тому надоело все это, он посоветовал предприимчивому добытчику пореже заглядывать с непрошеными визитами. "Больше он ко мне не приходил - наверное, обиделся", - меланхолически отметил в финале рассказчик. Нелегко Косте Печенкину скрывать двоедушие, маскировать трусость и подлость выспренними словами ("Три документа"), и рассказ завершается иронически сочувственной сентенцией: "Эх, товарищи, трудно жить человеку на свете!"
Вот это грустно-ироническое "наверное, обиделся" и "трудно жить человеку на свете" и составляет нерв большинства комических произведений Зощенко 20-х годов. В таких маленьких шедеврах, как "На живца", "Аристократка", "Баня", "Нервные люди", "Научное явление" и других, автор как бы срезает различные социально-культурные пласты, добираясь до тех слоев, где гнездятся истоки равнодушия, бескультурья, пошлости.
Герой "Аристократки" увлекся одной особой в фильдекосовых чулках и шляпке. Пока он "как лицо официальное" наведывался в квартиру, а затем гулял по улице, испытывая неудобство оттого, что приходилось принимать даму под руку и "волочиться, что щука", все было относительно благополучно. Но стоило герою пригласить аристократку в театр, "она и развернула свою идеологию во всем объеме". Увидев в антракте пирожные, аристократка "подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет". Дама съела три пирожных и тянется за четвертым.
"Тут ударила мне кровь в голову.
Ложи, - говорю, - взад!"
После этой кульминации события развертываются лавинообразно, вовлекая в свою орбиту все большее число действующих лиц. Как правило, в первой половине зощенковской новеллы представлены один-два, много - три персонажа. И только тогда, когда развитие сюжета проходит высшую точку, когда возникает потребность и необходимость типизировать описываемое явление, сатирически его заострить, появляется более или менее выписанная группа людей, порою толпа.
Так и в "Аристократке". Чем ближе к финалу, тем большее число лиц выводит автор на сцену. Сперва возникает фигура буфетчика, который на все уверения героя, жарко доказывающего, что съедено только три штуки, поскольку четвертое пирожное находится на блюде, "держится индифферентно".
Нету, - отвечает, - хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято". Тут и любители-эксперты, одни из которых "говорят - надкус сделан, другие - нету". И наконец, привлеченная скандалом толпа, которая смеется при виде незадачливого театрала, судорожно выворачивающего на ее глазах карманы со всевозможным барахлом.
В финале опять остаются только два действующих лица, окончательно выясняющих свои отношения. Диалогом между оскорбленной дамой и недовольным ее поведением героем завершается рассказ.
"А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег - не ездют с дамами.
А я говорю:
Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение".
Как видим, обе стороны обижены. Причем и та, и другая сторона верит только в свою правду, будучи твердо убеждена, что не права именно противная сторона. Герой зощенковского рассказа неизменно почитает себя непогрешимым, "уважаемым гражданином", хотя на самом деле выступает чванным обывателем.
Суть эстетики Зощенко в том и состоит, что писатель совмещает два плана (этический и культурно-исторический), показывая их деформацию, искажение в сознании и поведении сатирико-юмористических персонажей. На стыке истинного и ложного, реального и выдуманного и проскакивает комическая искра, возникает улыбка или раздается смех читателя.
Разрыв связи между причиной и следствием - традиционный источник комического. Важно уловить характерный для данной среды и эпохи тип конфликтов и передать их средствами сатирического искусства. У Зощенко главенствует мотив разлада, житейской нелепицы, какой-то трагикомической несогласованности героя с темпом, ритмом и духом времени.
Порой зощенковскому герою очень хочется идти в ногу с прогрессом. Поспешно усвоенное современное веяние кажется такому уважаемому гражданину верхом не просто лояльности, но образцом органичного вживания в революционную действительность. Отсюда пристрастие к модным именам и политической терминологии, отсюда же стремление утвердить свое "пролетарское" нутро посредством бравады грубостью, невежеством, хамством.
А началась у Петюшки пшенная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года с небольшим раздуло прямо в чернильницу.
Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая, интересная особа.
Докторша эта ему говорила:
Как хотите. Хотите - можно резать. Хотите - находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть перед собой все время этот набалдашник.
Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию.
Тогда велела ему докторша прийти завтра.
Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:
«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает - как бы не приказали костюм раздеть. Медицина - дело темное. Не заскочить ли, в самом деле, домой - переснять нижнюю рубаху?»
Побежал Петюшка домой.
Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза ей пустить, - дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка - чистый мадеполам.
Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.
Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.
Докторша говорит:
Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшенная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.
Петюшка слегка даже растерялся.
«То есть, - думает, - прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ёй, - думает, - носочки-то у меня неинтересные. Если не сказать хуже».
Начал Петюшка Ящиков все-таки свой китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.
Докторша говорит:
Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.
Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:
Прямо, - говорит, - товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя - не предполагал. Прямо, - говорит, - товарищ докторша - рубашку переменил, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, - говорит, - на них не обращайте внимания во время операции.
Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:
Ну, валяй скорей. Время дорого.
А сама сквозь зубы хохочет.
Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит.
А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!
Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?
Но, между прочим, операция кончилась распрекрасно. И глаз у Петюшки теперь без набалдашника.
Гримаса нэпа
На праздники я, обыкновенно, в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный - сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.
Главное, что в Лугу ездить - сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на головы ставят. Не только бронхит - скарлатину получить можно.
Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Нестарый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним - старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.
Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.
Старуха, значит, впереди идет - пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:
Неси, - кричит, - ровней, корзинку-то. Просыпешь чего-то там такое… Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы… Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу-ты, я говорю, дьявол какой!
Только видят пассажиры - действия гражданина ненастоящие - форменное нарушение уголовного Кодекса Труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.
Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие, дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменная гримаса нэпа.
Около окна просто брожение среди публики началось.
Это, - говорят, - эксплоатация трудящихся! - Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. - Это унижает ейное старушечье достоинство.
Вдруг один, наиболее из всех нервный, гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.
Это, - говорит, - невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.
То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.
Позвольте, - говорит, - может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, - говорит, - оскорбительно слушать подобные слова в нарушении Кодекса.
Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша.
Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.
А пес, - говорит, - ее разберет! На ней афиши не наклеено - мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.
Но после сел у своего окна и говорит:
Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.
До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.
Это, - говорит, - проехаться не дадут - сразу беруть за грудки. Затрагивають, у которых, может быть, билеты есть? Положите, мамаша, ногу на узел - унести могуть… Какие такие нашлись особенные… А, может, я сам с 17 года живу в Ленинграде.
Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.
Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет.
Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому, как дело к осени, а сапожонок, конечно, нету.
Вот Трофимыч поскрипел зубами - мол, такой расход, - взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.
Зашел он со своим ребенком в один магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо - и товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, никак не годится - цена не годится. Цена, прямо скажем, двенадцать целковых!
А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки - рубля за полтора, два.
Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Нюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине спросили - червонец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, куда ни придут - та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы - расхождение и вообще Нюшкин рев.
В пятом магазине Нюшка примерила сапоги - хороши. Спросили цену: девять целковых и никакой скидки.
Начал Трофимыч упрашивать, чтоб ему скостили рубля три-четыре, а в это время Нюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.
Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал:
Прежде, - говорит, - заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.
Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.
Сейчас, - говорит, - ребенок, может быть, явится. Может ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.
Заведующий говорит:
Это меня не касается. Я товару не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите.
На праздники я обыкновенно в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.Главное, что в Лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит — скарлатину получить можно.Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон ещё какой-то тип влазит. Не старый ещё. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.Старуха, значит, впереди идёт — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И всё командует ей:— Неси,— кричит,— ровней корзину-то. Просыплешь чего-то там такое... Становь теперича её под лавку! Засупонивай, я говорю, её под лавку. Ах, чёртова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, дьявол какой!Только видят граждане — действия гражданина не настоящие, форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.Некоторые начали вслух выражать своё неудовольствие — дескать, не пора ли одёрнуть, если он зарвался и кричит, и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменная гримаса нэпа.Около окна просто брожение среди публики началось.— Это,— говорят,— эксплуатация переростков! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берёт его прямо за грудки.— Это,— говорит,— невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.— Позвольте,— говорит,— может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно,— говорит,— оскорбительно слушать подобные слова в нарушение кодекса.Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша.Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.— А пёс,— говорит,— её разберёт! На ней афиша не наклеена — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.Но после сел у своего окна и говорит:— Извиняюсь всё-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы думали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесённые ему обиды.— Это,— говорит,— проехаться не дадут — сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особеннные. А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде.Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорблённого человека.
На праздники я обыкновенно в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный - сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.
Главное, что в Лугу ездить - сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит - скарлатину получить можно.
Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним - старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.
Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.
Старуха, значит, впереди идет - пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:
Неси, - кричит, - ровней корзину-то. Просыпешь чего-то там такое… Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы… Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, дьявол какой!
Только видят пассажиры - действия гражданина не настоящие, форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.
Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие - дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменная гримаса нэпа.
Около окна просто брожение среди публики началось.
Это, - говорят, - эксплуатация переростков! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.
Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.
Это, - говорит, - невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.
То есть, когда этого нового взяли за грудки» он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.
Позвольте, - говорит, - может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, говорит, оскорбительно слушать подобные слова в нарушение кодекса.
Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всегонавсего мамаша.
Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.
А пес, - говорит, - ее разберет. На ней афиша не наклеена - мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.
Но после сел у своего окна и говорит:
Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша Мы подумали как раз, знаете, другое Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.
До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.
Это, - говорит, - проехаться не дадут - сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть Положите, мамаша, ногу на узел - унести могут. Какие такие нашлись особенные. А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде.
Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.
Вероятно, НЭП был печальной необходимостью, но мы нему, видно, плохо подготовились. Недаром он многих старых большевиков поставил в тупик. Кое-кто из них, махнув рукой, пустился во все тяжкие (дело Краснотекова), были и такие, что покончили с собой (секретарь ВЦСПС Лутовинов,), а некоторые руководители открыли нэпу уж больно широкую зеленую дорогу.
Разлад и растерянность, охватившие советских людей, нашли свое отображение в стихотворении Демьяна Бедного «Эй!» Помните «Отзвук ли это минувшего быта иль первоцвет наступающих дней?»
Наш брат, простой советский человек, еще недавно чувствовавший себя хозяином в театре и кино, теперь подчас вступал туда робко и нерешительно. Гардеробщик, окинув опытным взглядом посетителей, сразу, вне очереди, кидался к богато одетому дяде и бережно принимал у него пальто в чаянии солидных чаевых. И не обманывался! По окончании спектакля дядя подымал над головой рублевку и молниеносно получал свое пальто раньше всех.
Открылись и магазины, где свободно можно было купить то, о чем недавно не смели и мечтать.
Любой ловкач мог беспрепятственно безо всякой цензуры издать какую угодно халтурную книжку, щекочущую нервы. Мне вспоминается творение некоего венеролога «За закрытой дверью». А другой ловкач стал даже выпускать развлекательную газетенку «Тачка».
Широко размахнулся некий Мириманов. Используя отсутствие на рынке детской литературы, он стал выпускать книжки для детей, обычно очень слабенькие. Но других не было, и миримановская продукция бойко расходилась. Печатал он ее в типографии ГПУ, которая тоже поняла, что с волками жить, по-волчьи выть, и что деньги не пахнут. Мириманов построил себе уютный особняк на Гоголевском бульваре и безмятежно проживал в нем, пока был жив нэп.
Но далеко не всем нэп улыбался. Всюду можно было встретить неудачников на улицах с товаром, тщетно ожидавшим покупателя. Помню, как в тогдашнем Театре сатиры актриса, изображавшая жалкую незадачливую торговку, пела с эстрады:
Отец мой пьяница.
Он пьет и чванится.
А мать уборщица –
Какой позор!
Сестра гулящая,
В ночи не спящая,
Дрянь настоящая!
Братишка вор.
Купите бублики,
Горячи бублики,
Несите рублики
Мне поскорей.
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты ночь ненастную
Хоть пожалей.
А какие странные общества тогда возникали! Назову некоторые из них. Общество взаимопомощи часто практикующих врачей и зубных врачей. Общество взаимопомощи извозчиков. Общество сторонников распространений идей кремации. Общество строителей международного красного стадиона. Всероссийская ассоциация друзей международного языка «ИДО». Общество трудящихся китайцев Москвы и Московской области. Всероссийское общество земледельческого и ремесленного труда среди ассирийцев. Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев. Еврейское колонизационное общество.
В Успенском переулке обосновалось увеселительное заведение «Не рыдай» с изысканными выпивками и закусками. Там даже выступали крупные артисты, прельщенные большими деньгами. В два часа ночи заведение закрывалось, но только для рядовых посетителей, а для избранных продолжало работать до рассвета, причем, говорят, там творилось черт знает что.
На углу Тверской (будущей улицы Горького) и Садовой открылся игорный дом с хорошим буфетом, функционировавший круглые сутки без выходных и праздничных дней. Странно было видеть, как скромно одетые люди, обуреваемые азартом, у тебя на глазах спускали последнее и, подавленные, брели к выходу. Куда? Кто знает! То ли домой, то ли по тюремной дорожке, промотав казенные деньги, то ли из жизни навсегда.
На Цветном бульваре с вечера до глубокой ночи бродили женщины и девочки-подростки, согласные на все. Помню взволнованную статью в «Правде» какого-то сотрудника этой газеты, возвращавшегося ночью из редакции. На Цветном бульваре его остановила девочка лет десяти и позвала переночевать. Когда он с ужасом посмотрел на нее, она спокойно сказала: «Меня можно!»
Карманники нарочито устраивали давку у входа в трамвай (других видов общественного транспорта тогда не было), чтобы легче было очищать карманы.
Открылись магазины Торгсина, где за иностранную валюту можно было купить по-дешевке самые заманчивые вещи. Никто не спрашивал, откуда у тебя валюта.

Жизнь кипела котлом на рынках. Продавцы громко выхваляли сврй товар, подчас с большим азартом. Помню, как какой-то продавец ловил в свои сети нерешительного покупателя.
Ваше здоровьице! Есть замечательное пальтецо на ваш росток оригинальный!
А в котлах для асфальта, на скамейках скверов и бульваров ночевали беспризорные дети, голодные, оборванные. Днем они просили милостыню преимущественно в пригородных поездах, жалобно пели:
Позабыт, позаброшен
С молодых ранних лет,
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет.
Счастье-доля со временем пришло, но, боюсь, что для них слишком поздно.